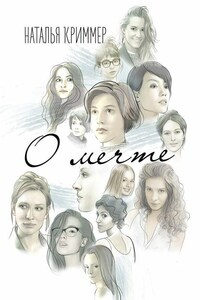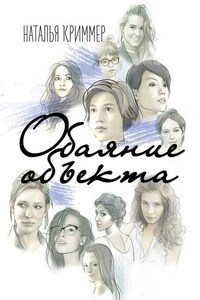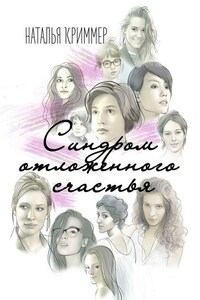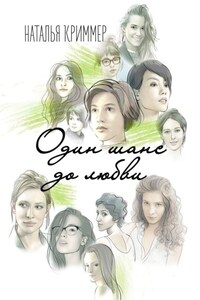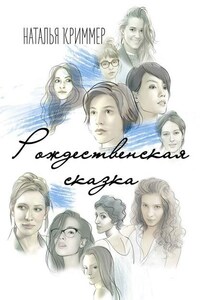Аня вышла замуж. Нельзя сказать, что она к этому стремилась. Она не мечтала о белом платье, фате, букете невесты и тому подобных сопутствующих этому событию атрибутах. Нет, конечно, в ранней юности, как и любая романтичная девочка, она эти события себе представляла, но потом подобные мысли надолго её оставили, так как было о чём подумать более насущном и сегодняшнем. Поэтому, сейчас её стремительное замужество, стало шагом к осуществлению совсем другой мечты – она страстно хотела, как можно быстрее уйти из родительского дома.
Анин отец, вероятно, когда-то давно усвоил постулат, который изрёк один из персонажей известного советского эстрадного артиста Аркадия Райкина: «Главное ребёнка родить, родил, на том спасибо». Руководствуясь этой установкой, после рождения очередного отпрыска, папочка ребёнком интересоваться сразу переставал, на свой взгляд, справедливо полагая, что его миссия по отношению к младенцу выполнена и перекидывал свои силы на воспроизводство следующих детишек. Каким образом, уже рождённые сыновья и дочери должны были выживать без родительской поддержки, было неизвестно и, главное, нисколько не занимало родителей. Да-да, именно обоих родителей, потому что многодетная мамочка недалеко ушла от своего мужа. Хотя, в какой-то степени, она о детях заботилась, по крайней мере, в доме всегда была какая-то еда, чаще суп, так как сварить кастрюлю некоего первого блюда было проще и бюджетнее, чем готовить что-то более фундаментальное и финансово затратное. «Чтобы не голодали» – это было, пожалуй, единственное, о чём болело материнское сердце. Если оно вообще о чём-то болело кроме науки, которой занимались родители.
Понятие гардероб, разумеется не мебель, а одежда, в этой семье напрочь отсутствовало. Носили, что придётся, донашивая друг за другом, и за детьми из знакомых, более обеспеченных семей. В доме бытовало культивированное матерью понятие – «вещизм». Понятие прививалось плохо, детям хотелось носить новые модные вещи, есть из красивой небитой посуды, спать на удобных кроватях, а не ютиться на двухэтажных нарах, неумело сколоченных местным дворником. Хотелось, есть конфеты и пирожные, но этого в семействе тоже не было. Не было из-за того, что лакомства дорого стоили, не входили в сферу жизненно необходимых продуктов и полностью подпадали под принятый в доме, ещё один удобный старшим членам семьи постулат, что «детям сладкое вредно».
Как было упомянуто выше, родители занимались наукой, работали в каком-то чудом уцелевшем с давних времён научно-исследовательском институте. Время в учреждении остановилось, платили там крайне мало, поэтому деньги в доме не водились, то есть совершенно. Старшее поколение это обстоятельство нисколько не расстраивало, а мнения молодых обитателей малогабаритной двушки на окраине Москвы никто не спрашивал.
Детей в семье родилось восемь человек. Двое малышей: мальчик и девочка умерли в младенчестве. От ещё одного младенца, родившегося с серьёзной патологией, любящая мамочка отказалась в родильном доме, шокировав даже видавший виды персонал больницы заявлением, что больному ребёнку среди здоровых детей делать нечего.
Таким образом, в семье росло пятеро детей, их могло быть и больше, но в какой-то момент у матери, что-то случилось со здоровьем, и врачи запретили ей рожать. Муж убеждал жену, что всё это ерунда и, что «лишний» ребёнок никому ещё не вредил. Но супруга за здоровье себя любимой крайне испугалась, и свои детородные возможности отменила медицинским способом. В какой-то степени, для уже существующих детей, это было спасением.
В этой семье дети не дружили, общались по необходимости, так как скученное проживание неизбежно влечёт некие бытовые разговоры и распоряжения, поступающие от старших к младшим.
Более или менее общались между собой две старшие сестры, эти отношения нельзя было назвать сестринской любовью или дружбой, но, по крайней мере, общие секреты были: обсуждения мальчиков, разговоры на тему того, кто на кого как посмотрел и тому подобные юношеские пустяки.
Нежно относились друг другу, пожалуй, только две младшие сестры: Анна и Павла. Павла получила своё нечасто встречающееся в современности имя не потому, что родители были знатоками этимологии имён или большими оригиналами, а просто потому, что ждали мальчика Павла, а родилась девочка. Имя решили не менять: «Зачем? раз уже придумано». Аня всегда задавалась вопросом: «А если бы выбранное имя было Фимистоклюс или Алкид, как в „Мёртвых душах“ Гоголя. Страшно подумать, как бы повели себя родители в этой ситуации». Павла естественно к своему имени притерпелась, привыкла, что вечно кто-то не особенно образованный спрашивал: «Почему у такой хорошенькой девочки мужское имя?». Она старалась при знакомстве именоваться Пашей, правда всегда подчёркивала, что она – Паша, но не Прасковья. Аня свою маленькую «Пашу, но не Прасковью» любила, жалела, защищала, старалась подкормить чем-нибудь вкусненьким, если появлялась такая возможность.