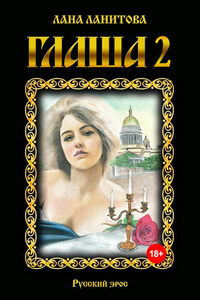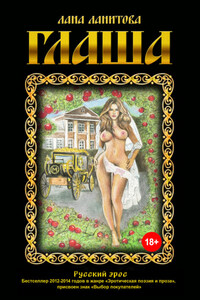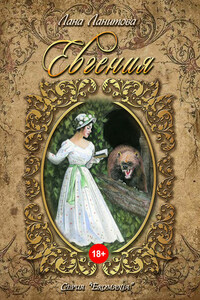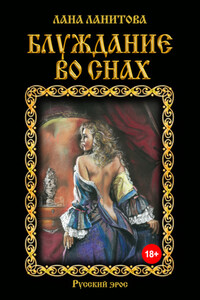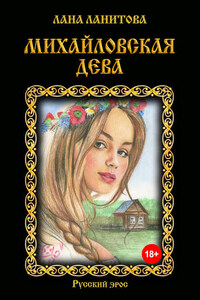Москва, 1901 г.[1]
Тапёр фальшивил. Та музыка, от которой он еще недавно хотел пуститься в пляс, теперь казалась ему безумной какофонией. От ее вихлястых и распутно высоких звуков, переходящих во влажно-интимные низы, его стало мутить. Глаза слепли от множества сверкающих газовых ламп. Тугой воротник новой сорочки немилосердно сжимал горло. Хотелось пить. Дрожащие руки нащупали на столике бутылку «Вдовы Клико». Он тут же обмочил пальцы и кромку накрахмаленного манжета. Чёрт, фужер вновь едва не выскользнул из рук. Он не знал, как ловчее удержать хрупкое стекло. Несколькими минутами ранее он сжал бокал, и тот раскололся, порезав ему ладонь. Он перевязал кисть салфеткой, но боли не почувствовал. Тело будто одеревенело. Ему казалось, что его засунули в чей-то чужой гипсовый и негнущийся футляр. Пара жадных глотков шампанского не принесла никакого облегчения. Всё так же хотелось пить.
– Джордж, порошок не запивают шампанским, – услышал он тихий голос Мити Кортнева. – Ты испачкал кровью новый смокинг. Может, ну их? Пойдём отсюда?
– Нет, ты же понимаешь, что мы не можем, вот так, просто уйти! – крикнул он другу в самое ухо, притянув его за тёплую шею.
Перед глазами мелькнули светлые Митькины ресницы и нелепая русая чёлка.
– Не ори… – Митя глупо улыбался, шмыгая носом.
– Митька, расчеши волосы на пробор. С этой чёлкой ты похож на дешевого лакея.
– Ну и чёрт с ним, – зрачки голубых Митиных глаз казались огромными и остекленевшими.
Пальцы друга совершали какие-то странные пассы возле вазы с фруктами. Казалось, что он хотел сорвать виноградину, но всё время промахивался и подносил ко рту пустую ладонь.
– Митька, ты слышишь меня?
– Да, – Кортнев бесстрастно кивал.
Ему чудилось, что музыка играла так громко, что Митя не может его слышать.
– Хочешь, я зарежу тапёра?
– Неа… – странным голосом хрюкнул Митя.
– Ты же видел, это она, – он произносил слова, стараясь как можно явственнее артикулировать каждый звук.
– Видел. Но, может, это всё же другая девушка? Просто похожа на неё.
– Нет, это Настя! Это её профиль. Профиль Клео де Мерод. Ни у одной гимназистки в Москве нет такого божественного профиля. Ты же помнишь, я всегда говорил тебе, что она похожа на ту самую Клео. С той только разницей, что Клео брюнетка, а эта – рыжая.
– Да…
– Митька, да, очнись же!
– Нет, это не Настя. Это просто очередная красивая кокотка. Очень красивая рыжая кокотка… Рыжая стерва из «Марципана».
– Замолчи!
Он плюхнулся на стул и уставился на безумный, алый, словно кровь, бархат. Зачем они завалили его красными розами, думал он. Их ведь совсем не видно. Красное на красном – это моветон. Видны одни стебли. А вот белые розы… Это другое дело. На алом фоне они смотрелись вызывающе роскошно. В стиле гобеленов эпохи рококо. Слишком помпезно… На его вкус – в этой дикой палитре не хватало только золота. Хотя и золото здесь присутствовало. Золотыми были её роскошные волосы.
«Господи, как же всё пошло, – думал он. – Пошло и безумно. Но и божественно прекрасно».
Чертовски невинно смотрелись её узкие, маленькие, почти невесомые ступни с блестящими карминовыми ноготками. И снова это сочетание – белого и красного. Зачем? Господи, что это? Что здесь происходит? Что это, чёрт возьми?
Из соседних лож послышались пьяные возгласы и улюлюканье.
– Хороша!
– Шарман!
– Belle!
– Пусть откинет назад волосы! – раздался чей-то гадкий голос. – Ведьма!
И это, последнее слово, вдруг подхватил весь зал, и с каждого будуара послышалось: