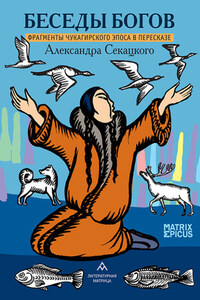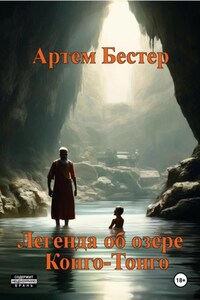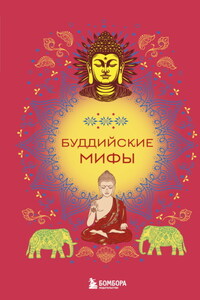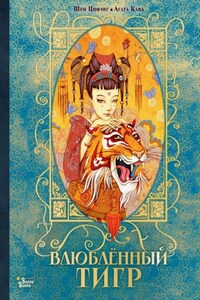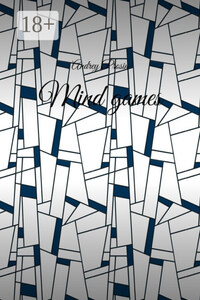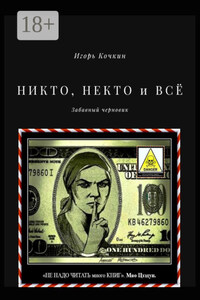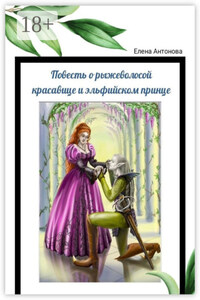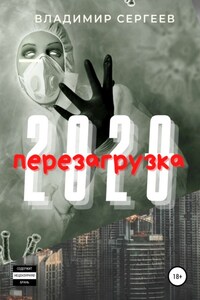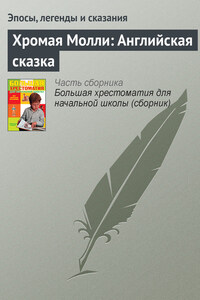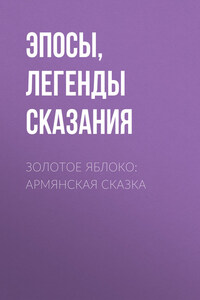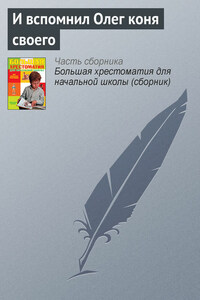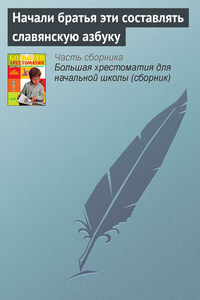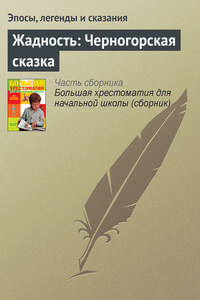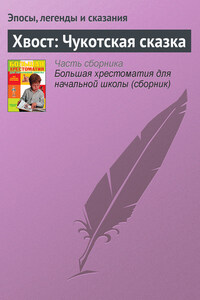К этому тексту необходимы краткие пояснения. Что в данном случае представляет собой предлагаемое читателю чтение? Откуда взялась эта подборка – то ли фрагментов эпоса, то ли просто материалов фольклорной экспедиции? Кто такие чукагиры, почему мы не слышали о них раньше и не видели даже упоминаний? Ну и, наконец, где основательные академические комментарии, придающие публикации научный статус или хотя бы некоторую солидность?
Подробные, развёрнутые объяснения потребовали бы целого ряда обширных экскурсов – в историю народов Восточной Сибири, в типологию палеоазиатской семьи языков, а также в историю этнографических экспедиций и судьбу архивных материалов вообще и этого материала, использованного именно для данной подборки, в частности. Полагаю, что всё это – дело будущего, и само будущее тут возможно, если публикация вызовет интерес и подтолкнёт научное сообщество к дальнейшему изучению предмета.
Я же впервые познакомился с материалом так. Заглянув на работу к своему приятелю Сергею К. (который просил пока не называть своего имени), сотруднику Российского этнографического музея (отдела этнографии Сибири и Дальнего Востока), я застал его работающим над архивом В. Г. Богораза-Тана, известного исследователя чукчей и соседних народов. Архив был достаточно обширным и разнородным: интервью, описания, отчёты, заметки, зарисовки – практически всё, кроме вещественных артефактов, хранившихся в отдельных залах.
– Долго тебя ждать? – спросил я, и тогда Сергей сунул мне несколько листочков.
– Вот посмотри пока. Довольно любопытно.
И я прочёл историю о том, как шаман получил знание от землеройки, – текст, записанный на неведомом языке с помощью транскрипции, которую Богораз-Тан разработал для записи чукотских источников, снабжённый переводом на русский. Два других листочка содержали не слишком связанные фрагменты, в которых тем не менее чувствовалась скрытая сила: они были непохожи ни на что фольклорное, ни на что попадавшееся мне прежде.
Отсюда и началось моё вхождение в неведомый мир, продлившееся около двух лет и увенчавшееся данной публикацией. Итак, резонный вопрос: что же за народ такой – чукагиры, наследие которого предлагается теперь широкому кругу читателей? Ответить на это не так просто. Само название заимствовано из тех первых листочков, которые столь опрометчиво подсунул мне мой товарищ. Их автор Л. С. Зейден все записи, не относящиеся непосредственно к чукчам, помечал соответствующим этнонимом: «ительмены», «коряки», «юкагиры», но несколько раз в записях, разбросанных среди чукотского материала, у него встречается пометка «чукагиры». Самый вероятный вывод отсюда такой: перед нами сведения из юкагирского фольклора, записанные со слов чукчей. Но почему бы тогда не свериться с имеющимися чукагирскими материалами для получения более полной, объективной картины?
Причина в юкагирах. Они известны как автохтонный народ Восточной Сибири и Крайнего Севера, по археологическим данным – с середины VI тысячелетия до н. э. Фактически со времён неолита юкагиры заселяли огромное пространство от Чукотки и Камчатки до Тобола, где с ними впервые и встретились русские, а именно отряд тобольского атамана Ивана Реброва в 1634 году столкнулся с юкагирами на реке Яне, после чего последовала довольно обычная история взаимоотношений: войны, сопротивление, перемирия, торговля, более или менее успешные попытки крещения.
Настоящая беда настигла юкагиров в конце XVII века, и пришла она откуда не ждали. На крайнем северо-востоке Евразии объявился крайне воинственный народ – чукчи, которые смогли оттеснить или поработить большинство соседних народов и даже выиграли несколько сражений у русских войск.
Для юкагиров столкновение с чукчами имело самые печальные последствия: они утратили бо́льшую часть своего ареала обитания, а также обычаи, обряды и язык. Уже к началу XX столетия осталось менее восьмисот юкагиров. Вот последние данные из Википедии (по материалам экспедиции 2011 года):
«Не удалось выявить ни одного юкагира, занятого в традиционном хозяйстве, некоторые заявили, что “рыбачат в свободное время”. Большинство опрошенных не имеет представления об обрядах и обычаях своего народа и о родном фольклоре.
Опрошенные юкагиры старшего поколения не помнили юкагирских сказок, но знали имена сказочных персонажей».
В исследовании сообщается, что юкагирским языком владело лишь шесть человек, но Сергей К., общавшийся с юкагирами ещё в 90-х годах прошлого века, уже тогда, по его словам, не встретил ни одного знающего язык.
Что и говорить, незавидная участь для народа, занимавшего некогда немалую часть евразийского континента. Тем не менее чукагиры смогли оставить своё наследие в виде разнородных вкраплений, настоящих блёсток в памяти других народов, прежде всего тех же чукчей и в значительно меньшей степени ительменов, коряков и эвенков (тунгусов). Несколько включённых в эту публикацию материалов было записано и на чукотском языке (то есть как пересказ чужеземных историй), но, что самое поразительное, подавляющая часть сообщений озвучивалась респондентами на неизвестном им языке, именно как отдельные, обособленные мнемические вставки. Чаще всего такие вставки представляют собой заклинания, проклятия и даже ругательства, но среди них то и дело попадаются связные истории или их фрагменты – три таких как раз и записал Л. С. Зейден. Этот диковинный язык действительно слегка похож на юкагирский (и, несомненно, является палеосибирским языком), но всё же достаточно сильно отличается от сохранившихся образцов собственно юкагирского. Возможно, перед нами древнеюкагирский язык, возможно, язык родственного юкагирам исчезнувшего народа, что, собственно, и позволяет сохранить этноним «чукагиры». Респонденты-чукчи называли представителей народа, о которых они рассказывали, «чужеземцами», «чужими», «прежними», «ушедшими». Сами исторические юкагиры, судя по всему, не осознавали себя единым народом, и уже в XIX веке их даже в языковом отношении делили как минимум на две группы: «тундровые» и «колымские». Куда более очевидным, соответствующим коллективному самосознанию было тотемное единство: люди медведя (Медведи), Выдры, Нерпы, Гагары и т. д. – уцелевшие юкагиры помнят не только имена персонажей сказок, но и свой тотем, что следует и из публикуемых материалов. Но из наших исследований тем не менее явствует, что речь всё же идёт о некоем едином этносе, исчезнувшем народе – пусть он пока называется чукагирами.