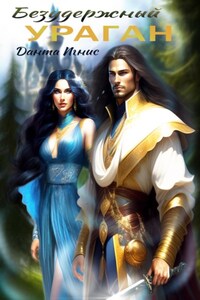Глава 1
Словарь неясных скорбей
Мне было пятнадцать, и я уже целый год жил с диагнозом ревматоидного артрита. Стояла осень, респираторные инфекции вовсю гуляли по Москве, но обычный насморк теперь заканчивался для меня болями в колене, а если сильно прижмёт – ещё и в бедре. Потом ко всему этому добавятся суставы рук, шея и поясница, но в те времена моя болезнь развивалась ещё как лайт-вариант. Проводя большую часть суток лёжа, я пристрастился читать. И вот как-то раз ко мне в руки попала книга Хемингуэя – «Фиеста. И восходит солнце».
Я перевернул последнюю страницу, когда обострение уже началось. Впечатление от книги наложилось на предлихорадку. Сцена бегущих по городу быков пришлась на высший пик температурной свечки, и я перед глазами, как наяву, видел следующую свою работу – хотел написать её акрилом, лишь только поднимусь на ноги. Малиновые вспышки вырывались на передний план, а ближе к углам, по периферии, во все стороны разлетались куски некой непрочной постройки – балки, перила, ступени. Ударами сильных ног бешеный бык разносил в щепки всю нашу треклятую размеренную жизнь. Той весной задумка картины крепко сидела в моей голове, я только и ждал, чтобы контроль матери ослаб, и можно было наконец приступить к грунтовке холста.
Но работа вышла неудачной – и первый её вариант, и второй, и четвёртый. То я перегружал композицию, и бык хотя и доминировал, но выглядел тяжёлым, то страдала колористика: мне не хотелось лобового столкновения красного и чёрного пигментов, а приглушённые цвета вдруг принимались без моего участия гармонизировать самым неожиданным образом. На уровне наброска меня вроде всё устраивало, но лишь только дело доходило до красок, вся лёгкость куда-то девалась. Я бился-бился, да и отступил до лучших времён. А потом и вовсе пришёл к выводу, что сама суть моего «Быка» была целиком подражательной и вторичной: я, наверное, пытался скопировать стиль моего учителя, известного художника Николая Кайгородова. В конце концов я решил избавиться от неудачной работы, но Мария вытащила полотно из огня – в прямом смысле.
До сих пор не могу забыть, как Мария переводила взгляд – то на меня, то на картину, то снова на меня, смотрела, вытаращив глаза, как лесная сова. Трясла холстом перед моим носом. А я, словно загипнотизированный, не отводил от неё глаз и думал только о том, что эта женщина сейчас совсем рядом, она стоит так близко! Вот, вот сейчас, надо вырвать у неё холст – и одной рукой сжать худые, тонкие запястья, а другой с силой притянуть к себе.
Как действовать дальше, после того, как притяну, – я понятия не имел. В голове моей в тот момент творилось чёрт-те что – а потому я так и остался стоять перед ней, как дурак, молча, и, открыв рот, слушал, как она меня отчитывает.
Холст она у меня забрала. Стряхнула гарь, свернула в трубку и засунула в шопер с обтрёпанной ручкой. Куда она потом дела этого быка – понятия не имею. Вполне могла дойти до ближайшего угла и выбросить его в мусорный бак, тайком, чтоб я не видел.
Но дело было даже не в «Быке». Дело было в самой Марии – она восхитилась моей работой. Или просто сделала вид, что восхищается, ведь Мария всегда была хорошим педагогом.
Из-за этой женщины я сходил с ума, я буквально задыхался.
* * *
За глаза мы в классе звали её просто: Иртышова. Фамилия звучная и знаменитая. Дед Марии Александровны, а заодно и прадед, были академиками, отец её тоже пошёл по стопам предков и был профессором – в общем, звёздная семейка. Но в ней самой не было ни грамма пресловутой звёздности.
С чем бы сравнить её? Наверное, с дикими птицами, а может, с рыбами – с существами, которых нельзя одомашнить. Можно любить сойку, которая каждый вечер прилетает под крышу твоей дачи и садится на обветренную деревянную перекладину. Можно смотреть, как в пруду сверкают хвостами зеркальные карпы, – можно даже сидеть у подножия водопада, наблюдать за этими рыбами и гадать, сумеет ли хотя бы одна из них подняться вверх, сопротивляясь силе потока, и там, на изгибе сияющего брызгами колена, превратиться в дракона – или в кого там ей нужно превращаться согласно легенде? Но вот опустишь ты руки в воду, поймаешь одного и зажаришь – и волшебство кончится.
Если представить мою подростковую сущность в виде античного портика – мраморного, слегка рябоватого от вкраплений ракушечника, – так вот, человеком, который отстроил бы фундамент портика, был бы, без сомнения, дядя Коля, мой учитель рисования. Но той, кто положил бы на колонны антаблемент – фриз, карниз и архитрав, – стала бы именно Мария. Я имею в виду не меня сегодняшнего, а меня, ученика старших классов московской школы, живущего в середине двухтысячных в Москве в родительской четырёхкомнатной полногабаритной квартире, недалеко от станции Багратионовская. Хотя, сказать по правде, я сегодняшний, похоже, остался почти таким же, правда, стены и колонны изрядно поистёрлись, закоптились, а кое-где покрылись унылыми сколами и трещинами.