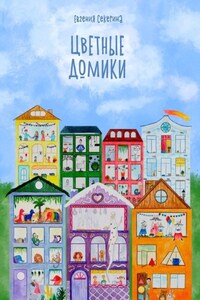© Козинцев А.Г., 2025
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2025
© Издательство «Альма Матер», 2025
* * *
![]()
Совместный проект Издательской группы «Альма Матер» и Международной Академии дураков Славы Полунина
В оформлении книги использованы офорты из цикла Balli di sfessania («Пляски») Ж. Калло (1622), изображающие сцены из Комедии дель арте. На обложке – рисунки С.М. Эйзенштейна, изображающие персонажей той же комедии (1917)
Рецензенты:
А.Е. Аникин (академик РАН, заведующий сектором русского языка Института филологии СО РАН),
Н.Н. Казанский (академик РАН, научный руководитель Института лингвистических исследований РАН),
Дж. Морреалл (почетный профессор религиоведения, Колледж Вильгельма и Марии, Уильямсберг, США)
* * *
Смысл смеха почти непонятен для нас, он скрыт под многовековыми напластованиями. Чтобы создать антропологию смеха, надо первым делом заняться его археологией.
В архаических обрядах смех соседствовал со смертью. Смерть была временной, за ней следовало возрождение. Так природа умирает зимой и оживает весной. Вечная череда фаз жизни, смерти, новой жизни, периодическое праздничное переворачивание социального порядка. Раб на короткое время становится царем, слуги открыто смеются над господами. Потом шутовского царя осмеивают и изгоняют или убивают. Все возвращается на свои места до нового праздника.
«Подражание худшим людям» – так определил сущность комедии Аристотель. К смеху он подходил с моральными, а не ритуальными мерками, его взгляды ближе к нашим, чем к архаическим. Но и архаическому праздничному смеху предшествовали многие тысячелетия, когда смех играл иную роль. Какую же? Почему смех более стихиен и бессознателен, чем любое иное проявление нашей натуры, доставшееся нам в наследство от предков? Каков был его исконный смысл и почему этот смысл оказался забыт и заменен множеством культурных мотивировок? Может быть, никакого общего значения у смеха нет, как думают многие теоретики? Наконец, что такое юмор и почему он вызывает смех? На эти вопросы автор попытался ответить, используя данные разных наук, гуманитарных и естественных. Насколько ему это удалось – судить читателю.
Предисловие ко второму изданию
Семнадцать лет, прошедшие со времени первого издания книги, – срок немалый. Однако в философско-психологической сфере, несмотря на множество опубликованных с тех пор интересных работ, не произошло ничего, что заставило бы меня пересмотреть главные мои выводы. Путеводные звезды на моем гуманитарном горизонте остались прежними – Кант, Шиллер, Жан Поль, Салли, Эйзенштейн, Бахтин, Фрейденберг, Тынянов… Изменения произошли, но коснулись они меня самого. Мне стало понятнее значение некоторых старых работ, которые никогда не рассматривались в контексте теории комического. Это относится прежде всего к русскому формализму и особенно к Эйхенбауму, взгляды которого на трагедию и комедию остались, по существу, незамеченными, как и глубинное родство формалистической эстетики с эстетикой комического. Параграф 1.2 дополнен соответствующими материалами. Еще один недооцененный мыслитель, также обосновывавший единство комизма с трагизмом, но на совершенно иной основе, – Пинский. Моя недавняя статья о нем публикуется в Приложении, где рассматриваются дополнительные факты, относящиеся к эстетике формалистов.
Что же до естественно-научных основ теории смеха, то я попытался учесть главные достижения последних лет во 2-й главе нового издания книги, а до этого – в американском издании (Kozintsev 2010). Однако и здесь, несмотря на десятки новых имен и публикаций, ничего, что ставило бы под сомнение основополагающие работы Яна ван Хофа об эволюции смеха (Hooff 1972), Терренса Дикона и Барбары Вильд о его нейрофизиологических механизмах (Deacon 1992; 1997: 245–246, 421; Wild et al. 2003), за последние десятилетия не появилось.
Возможно, в новом издании следовало бы сослаться на вышедшие с тех пор русские переводы двух важных книг – Б. Отто о шутах (Отто 2008) и Р. Мартина о психологии юмора (Мартин 2009). Я, однако, оставил ссылки на оригиналы (Otto 2001; Martin 2007), и не только потому, что читатель может при желании легко найти соответствующие места, а и по причине изъянов перевода. Так, Р. Мартин вслед за В. Рухом предложил (по-моему, без всякого на то основания) выделить некую особую эмоцию, якобы выражаемую смехом, и обозначить ее разговорным словом «веселье» – соответственно, «mirth» (Martin 2007: 8–10, 155–156) и «exhilaration» (Ruch 1993). Мало того, что эти псевдотермины, обозначающие смесь радости со смехом, ничуть не проясняют связь между ними, но вдобавок в русском переводе книги Р. Мартина (Мартин 2009: 83) слово «mirth» переведено как «радость», что окончательно затемняет вопрос, который и без того далек от ясности (см. параграф 2.3).
Я признателен А. А. Аншуковой, М. С. Левиной, А. И. Гура и всем сотрудникам издательской группы «Альма Матер», причастным к переизданию книги. Спасибо О. В. Волковой и Н. Н. Щербакову – первым читателям рукописи, избавившим ее от многочисленных огрехов. Стандартная оговорка, которой принято заканчивать предисловие – «оставшиеся изъяны целиком на совести автора» – в данном случае будет недостаточной, ибо к оставшимся, боюсь, прибавились новые, возникшие в силу закоренелой привычки автора вносить правку после того, как окончательный (теперь уже действительно, действительно окончательный!) вариант выправлен и согласован. Оправдываться бесполезно, остается лишь попросить у читателей прощения и понадеяться на помощь издательства.