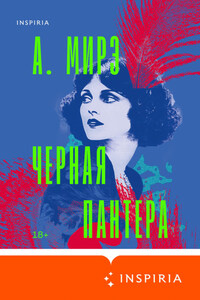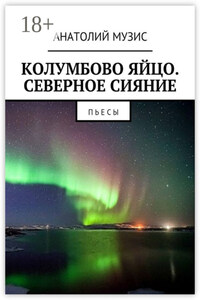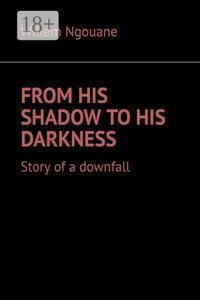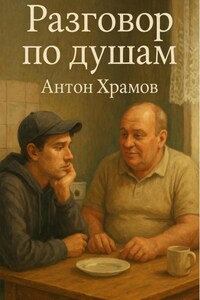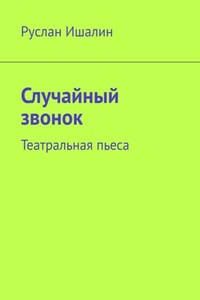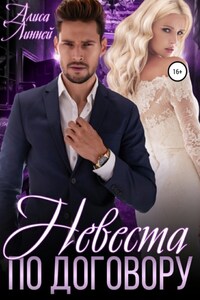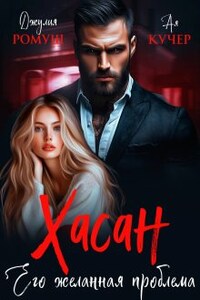В поисках настоящей любви
Сохранилась только одна фотография этой женщины: замысловатый тюрбан (следование моде начала XX века) и усталое, какое-то растерянное, чуть склоненное вбок лицо под ним. Однако встречи с ней людям врезались в память: «Женщина странная, ни на кого не похожая». Но странное впечатление складывалось еще до личного знакомства, тогда, когда читающая Россия ломала голову, кто же скрывается под звучным псевдонимом «А. Мирэ» – мужчина или женщина? Даже такой знаток литературы, как В. Брюсов, беспомощно разводил руками: «Мы не знаем французского автора с фамилией Мире»[1]. Впоследствии стало известно, что псевдоним она придумала, взяв фамилию знакомого студента «Реми» и переставив в ней слоги. Но есть и версия, что в основе французское слово mire — прицел, мушка. Возможно, она так себя и ощущала: всегда была на мушке, на взводе, на прицеле…
Впрочем о жизни Александры Михайловны Моисеевой (1874–1913), а именно она скрывалась под звучным псевдонимом, надо рассказывать по порядку: столько она заключает в себе событий, переживаний, трагизма и – любви…
Родилась Шурочка – так звали ее близкие – в семье среднего достатка в провинциальном городе Борисоглебске. Окончила гимназию. Годы юности, смутных порывов и надежд, ожиданий и волнений подробно описаны ею в одном из последних опубликованных произведений – «Страницы из дневника» (1912), где автор вывела себя под именем героини Лары. Это она, юная прелестная Шурочка-Лара, томится неясными мечтами. Замкнутая и стеснительная, она пробует разорвать круг повседневности, покидает постылый домашний очаг, устремляется к тому светлому, романтическому, что сосредоточено для нее в театре. Лара поступает на сцену, но вскоре оставляет ее (это проделала и Шурочка Моисеева), так как и там встретилась с корыстолюбием и пошлостью.
Девяностые годы позапрошлого века. Время революционного бурления в среде молодежи. Шурочка с ее стремлением к правде и справедливости оказывается в кругу радикально настроенных молодых людей. По делам революционной пропаганды она выехала в Одессу, где и была арестована, оказалась в тюрьме, откуда освободилась в 1894 году, оставшись под надзором полиции. Без паспорта, дожидаясь разрешения на выезд за границу, прожила следующие три года уже в Кишиневе. Трудно судить, насколько значимо было для нее революционное прошлое. Возможно, ее опять-таки привлекала романтика, на этот раз сосредоточившаяся в борьбе, горячих спорах, ощущении опасности. Во всяком случае, в тех странах, где она побывала после России (выехала в 1897 году), – в Бельгии, Франции, Италии – она нередко посещала рабочие собрания, митинги и даже запечатлела несколько таких сценок в своих рассказах.
1897 год. Париж. Монпарнас. Художественная богема. Шурочка позирует живописцам, становясь подругой то одного, то другого. Позже в ее рассказах возникнет много этих «моделей», являвшихся «материалом» искусства, от которых принято брать молодость, красоту, готовность служить любимому, а потом, выбрасывая на улицу, забывать о них. Для Шурочки началась вольная жизнь: веселые дружеские попойки, ночные бдения, нескончаемые разговоры об искусстве. Она пристрастилась к табаку, абсенту. Такой ее знал Максимилиан Волошин, и это знакомство оставило у него неприятные воспоминания…
Кончилось тем, что один из любовников продал ее в публичный дом в Марселе, где она развлекала пьяных матросов и из которого ей с огромным трудом удалось выбраться. Выбиваясь из последних сил, прося милостыню, она добралась до Парижа. Возможно, уже тогда у нее появились первые признаки душевного заболевания – тяжелые видения, ощущение давящей пустоты. Однако все это не заставило ее проклясть «парижскую» и ту «новую, могучую жизнь», которая ей была так необходима.
«В Париж нужно в первый раз попасть такой, какой я попала: очень беззаботной»[2], – писала она в одном из писем. Но «беззаботность» Шурочки была особого рода – это была жадность молодости, надежда на встречу, ту великую, единственную встречу, которая оправдает все лишения и падения. Любви, любви исступленно искала Шурочка на мансардах, в кафе и даже, возможно, на мостовой. Кому-то это может показаться отвратительным, ужасающе безнравственным. Но, как бы отводя подобные подозрения, она повторяла: «Вы мне говорили, что у меня никогда не было любви, а так, обрывки (от себя прибавляю) – цинизма. Дело в том, что я в глубине души никогда не была цинична. Так сложилась жизнь».
Она вернулась в Россию приблизительно в 1903 году. Поселилась в Нижнем Новгороде, где зарабатывала на жизнь, едва ли не ежедневно публикуя в местной газете зарисовки, картинки и сценки из парижской жизни. Происходило это так: она запасалась на ночь водкой, селедкой и огурцами, а наутро приносила в редакцию очередной рассказ. Естественно, такой образ жизни не проходит бесследно. Уже тогда, как свидетельствовали друзья, она «совсем потеряла образ человеческий. С утомленным лицом от бессонных ночей и вина, плохо, неопрятно одетая, с какой-то виноватой улыбкой и странным неестественным смехом»