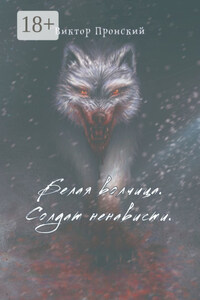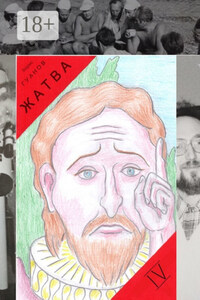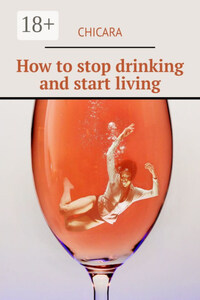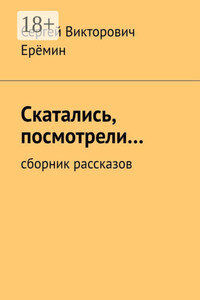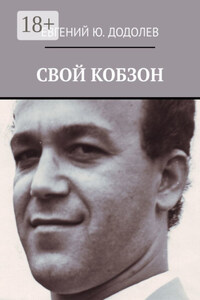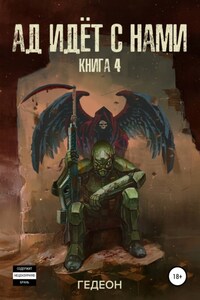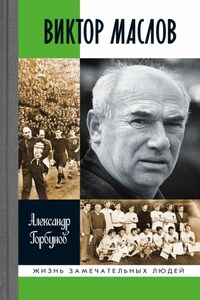Если согласиться с постоянными ссылками Давида Боровского на «везение» и «Его величество Случай» – так он частенько объяснял свои грандиозные успехи, заставлявшие театральный мир замирать от восторга, – то уж театральному миру-то как повезло с появлением в нем художника-мыслителя, самого заметного сценографа второй половины ХХ века.
Он прошел путь от ученика декоратора в киевском Театре имени Леси Украинки, в котором начинал работать в четырнадцатилетнем возрасте, оказавшись в «волшебной коробочке» в общем-то случайно, до общепризнанного реформатора современной сцены мирового уровня, поменявшего взгляд на театральное искусство в целом и поражавшего неслыханной яркостью своих идей.
В знаменитом театральном словаре Патриса Пави – имена трех представителей отечественного театра: режиссеров Всеволода Мейерхольда и Константина Станиславского и сценографа, благодаря которому произошли тектонические сдвиги в сценическом искусстве, Давида Боровского.
Понятно, что в Киеве во второй половине 1950-х годов и в первой половине 1960-х никто и предположить не мог, что за работами Давида Боровского скрывается будущий выдающийся сценограф мирового уровня, мастер, в значительной степени, по характеристике Юрия Роста, «определивший современные направления этого искусства».
Одно из основных достижений Давида Боровского – полное изменение устоявшегося представления о роли сценографа в создании спектаклей, всегда считавшегося «подсобной фигурой». Боровский, называвший спектакли плодом совместного, командного сочинительства, в котором принимают участие все имеющие отношение к постановке «действующие лица и исполнители», добился, по определению театроведа Аллы Михайловой, уникального соединения «острейшей условности с пронзительной жизненной правдой».
«С уходом Боровского, – считает режиссер Лев Додин, – мы потеряли мощный не только художественный, но и интеллектуальный, нравственный центр. Философ, мудрец, которого в театральном нашем мире за глаза и в глаза звали Ребе, – он был не только самым честным человеком, что сегодня, когда быть нечестным вроде бы нормально, особенно важно. Он саму работу не представлял себе вне нравственных категорий».
Боровский обладал редким для театрального человека качеством – безошибочным нравственным чутьем. Он всех соединял, не прилагая к этому малейших видимых усилий: одним только своим существованием.
Боровский, которому Создатель ввел сыворотку против лжи, признавал только простые и честные отношения между людьми, только правду. Он – для себя – делил людей на тех, кто, толкая тяжелую дверь, идет, не оглядываясь, дальше, и на тех, кто, пройдя, дверь придерживает ее, чтобы она не ударила идущего следом.
Боровский, оформивший более 150 спектаклей в разных странах, работал со многими режиссерами, в частности, с Ириной Молостовой, Владимиром Нелли, Михаилом Резниковичем, Анатолием Эфросом, Георгием Товстоноговым, Олегом Ефремовым, Иштваном Хорваи, Галиной Волчек…
И конечно же, с Леонидом Варпаховским, встреча с которым в Киеве стала для Давида едва ли не самой решающей в профессии и в жизни; с Юрием Любимовым, для которого Боровский стал полноправным соавтором в создании знаменитого Театра на Таганке; Михаилом Левитиным, с которым было сочинено немало спектаклей; со Львом Додиным, тандем с которым стал ярчайшим событием в театральной жизни страны.
«Художник и режиссер, – говорил Давид Боровский, – должны работать вместе и понимать друг друга. В идеальном случае их совместные идеи так сплетены, что непонятно, собственно: кто чьи интересы отстаивает»
Сотворчество Любимова и Боровского, создателей «золотого века “Таганки”», таким идеальным случаем и оказалось. Оно началось со спектакля «Живой», два десятилетия запрещавшегося к показу властями, но все равно остававшегося шедевром на все времена. Среди несомненных совместных таганских шедевров Любимова и Боровского – «А зори здесь тихие…», «Гамлет», «Товарищ, верь!..», «Деревянные кони», «Обмен», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», «Дом на набережной», «Владимир Высоцкий»…
Сценография высокого уровня включает в себя ощущение бесконечности. «…художник-иллюстратор старого театра, – говорил Марк Захаров, – начал на наших глазах обретать функции современного режиссера-постановщика. Что бы делал Юрий Любимов без Давида Боровского? Нашел бы другого Боровского?.. Скорее всего, бедствовал бы продолжительное время, и эстетика “Таганки” формировалась бы не столь успешным образом. Боровские просто так, как грибы после дождя, не растут».
* * *
Бесценным подспорьем в работе над этой книгой, не театроведческой, а биографической (не только для героя биографической, но и для театров, в которых он блистал, и для людей, с которыми работал), стали, конечно же, рассказы Давида Боровского из «Убегающего пространства», десятки его блокнотов, большей частью самодельных, с вклеенными страницами, карманного формата, переполненных карандашными записями, связанными с подготовкой спектаклей, номерами телефонов, фамилиями, сведениями о перемещениях по миру…