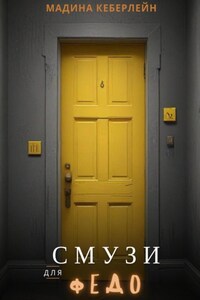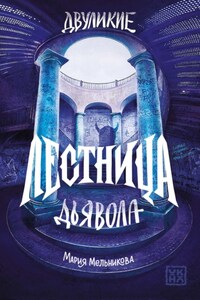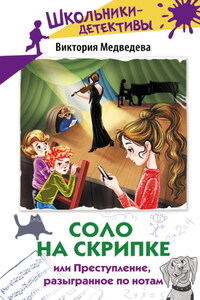1
Они всё ещё здесь. Их не слышно, но они здесь. Оба. Не уходят. Ищут. Может, совсем рядом. Прямо за этой дощатой стеной.
Закрыть глаза. Не дышать. Даже не думать о них.
Господи, господи, как же страшно!.. Нет, не плакать. Нельзя даже всхлипнуть. Любой звук выдаст. Замереть и ждать. Они уйдут. Постоят. Поищут. Не найдут и уйдут. Просто жди. Просто представь, что ничего не происходит. Представь, что сейчас лето. Или даже весна. Вот соберёшь Грома и поедешь в поля, за реку, на станцию – куда угодно. Просто поедешь кататься.
Нет, неправда, всё уже давно не так! Тут даже пахнет по-другому – не живым, не тёплым: овсом, соломой, лошадьми. Пустой, безжизненный запах. Что брошенный дом, что брошенная конюшня – пахнет одинаково: пустотой и смертью.
Но когда же, когда всё осыпалось, повалилось и рухнуло? В какой момент понятная, счастливая жизнь превратилась в кошмар, горячечный бред? Ведь совсем недавно она была иной. Когда? Прошлой весной? Да, они как раз уезжали – папа и Марго.
Это было в апреле, сразу после Пасхи. В апреле семнадцатого. Прозрачном, радостном. Какой день тогда стоял – яркий, умытый! Небо высокое-высокое, и сияющий парк замер в напряжённом, волнующем ожидании – вот-вот прыснут в небо первые зелёные искры.
Они выехали утром. Игнат вёл от дома шагом и только у ворот тронул рысью. Колокольчик звенел на весь парк – Марго любила, чтобы с колокольчиком. Прихоть, каприз. Но мило.
А они вышли позже, дали фору. Уже собранный Гром стоял у конюшни, и вместе они слушали удаляющийся колокольчик – а сердце брякало таким счастьем, такой невозможной радостью!
А потом – в седло, и сразу в гору. Гром взял в галоп с места. Замелькали, замелькали – ветки, деревья. Берегом промчались – дом остался позади. И вылетели на длинный, прямой, к воротам ведущий выезд. Тут Гром вытянулся, как на скачках, только сиди и держись – или в стременах привстать, чтобы не мешать ему.
И крик – звонкий, победный, на весь парк:
– Э-ге-гей!
Сначала шляпка мелькнула – Марго приподнялась в коляске, увидела, замахала.
Потом папа.
А они уже их настигали – куда двоим упряжным против Громушки!
– Вот чёрт какой! – слышался ворчливый голос Игната.
Папа смеялся, а Марго аж заливалась смехом, который звенел, как колокольчик, и махала шляпкой.
– Возвращайся! – папа, сквозь смех.
– Ух, раззадоривашь, ваша светлость! По-берегись! – Игнат встал на козлах и хлестнул воздух. – П-шли! Давай! Д-дармоеды! Н-но!
Пара разгонялась медленно, как паровоз. Подъём кончился, и вылетели из ворот на полном ходу. Тут пришлось Грома сдержать, а то он рвался вперёд, но надо же с ними вровень, лица их видеть, смеяться им в такт. Гром шёл широким, удобным галопом, легко, без натуги, пока упряжные рвались, ширя ноздри. Можно откинуться в седле и расслабиться, позволить ему идти как хочет.
– Прибавь, прибавь, родимые!
– Не сдавайся, Игнатушка, милый, гони! Вот ведь заноза! Всё равно не возьмём тебя с собой! Правда, папа? – Марго показывала язык.
– А и не надо! Звать станете, не поеду!
– Езжай домой! – кричал папа.
– До встречи в Петербурге! – Марго махала рукой.
Дорога ушла вправо, на станцию. Всё, проводили… Отпустить повод и слегка привстать в седле. Гром, умница, понял и пустился прямо, на луг, размашистой рысью. Коляска ещё долго мелькала за холмом, поднимая пыль.
До встречи в Петербурге…
А потом всё кончилось, и теперь не скажешь когда. В октябре? В марте? Папа звал, папа требовал, чтобы бросали дом и приезжали. Сначала в Петербург. Потом за границу. Сейчас они с Марго, наверное, уже в Париже. От отца давно не было писем, но должны быть там – полгода прошло с последней почты. А мама всё не решалась оставить дом. Ждала, на что-то надеялась. Решилась вот только теперь, а теперь что? – поздно. Людей не осталось. Лошадей не осталось. Грома последним отдали тому же Игнату, он один ещё приходил к ним по старой памяти. Даже хлеб приносил и почти не брал за это вещей. Впрочем, брать-то было уже нечего – давно растаскали. Свои ли, чужие – кто знает. Мама уберегла только библиотеку, хотя кому здесь нужны книги даже и на русском, а тем более на французском, английском, немецком? И Грома держали и прятали как могли, летом пасли сами, осенью делились с ним хлебом.
Третьего дня мама отдала его Игнату с уговором, что отвезёт их на станцию сегодня ночью. И где теперь Игнат?
Ни Грома, ни Игната.
За стеной зашуршало. Ветер? Открыть глаза, прислушаться. Мамин голос давно стих. Она, конечно, уже всё поняла и не выдаст. Но эти всё ещё здесь, где-то рядом – даже про себя нет сил назвать их по-настоящему. Хотя как это – по-настоящему? По-настоящему они просто бандиты! Ходят, рыщут. Но не слышно. Только ветер за стенами конюшни.