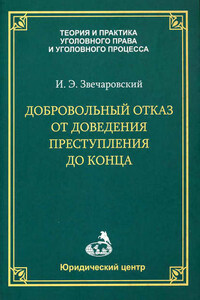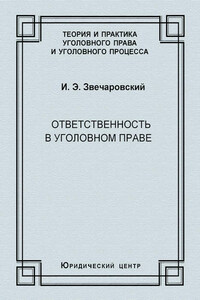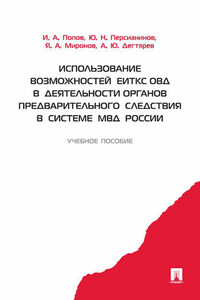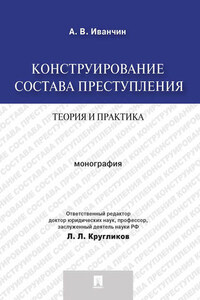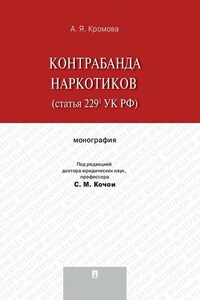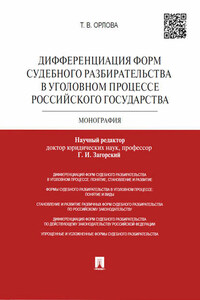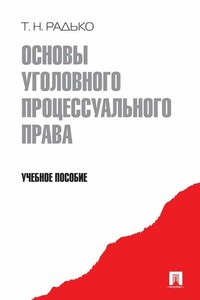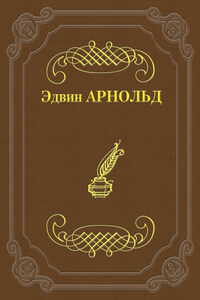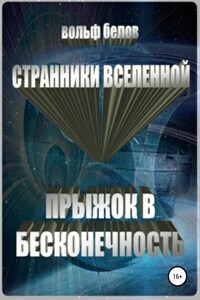§ 1. Регламентация добровольного отказа от доведения преступления до конца в отечественном и зарубежном законодательстве
История развития отечественного и зарубежного уголовного законодательства убедительно свидетельствует о том, что лицо, преступившее черту уголовного закона и добровольно предпринявшее после этого меры к смягчению последствий такого конфликта, всегда могло рассчитывать на положительную реакцию со стороны государства. Также всегда при этом законодатель стремился к установлению соответствующей соразмерности между двумя этими явлениями. Одна из таких ситуаций связана с добровольным отказом от доведения преступления до конца.
Первым отечественным кодифицированным нормативным актом уголовно-правового характера, отразившим добровольный отказ, является Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в ст. 119 которого предусматривалось: «Когда учинивший приготовление к преступлению или уже и покусившийся на оное остановился при том и по собственной воле не совершил преднамеренного, то он подвергается наказанию лишь в том случае, если содеянное им при сем приготовлении и покушении есть само по себе преступление, и только за сие преступление, а не за то, которое он был прежде намерен совершить»[1].
С точки зрения современных представлений об институте добровольного отказа, приведенное установление, конечно же, несовершенно. Однако по сути оно отражает все основные признаки рассматриваемого института применительно к преступлениям, совершаемым индивидуально (включая решение вопроса о правовых последствиях). И, как мы убедимся ниже, данная попытка законодательной регламентации добровольного отказа является в этом плане даже более состоятельной, чем некоторые из последующих. Поэтому вряд ли бесспорным можно признать утверждение Б. В. Волженкина о том, что только в УК РФ 1996 г. «впервые для отечественного законодательства дано определение добровольного отказа от преступления»[2].
В Уголовном уложении 1903 г. вопрос о добровольном отказе от доведения до конца преступлений, совершаемых одним лицом, вообще был оставлен без внимания. Вместе с тем в этом нормативном акте впервые в отечественном законодательстве была предпринята попытка регламентировать добровольный отказ при соучастии: «Соучастник, отказавшийся от участия в преступном деянии и принявший своевременно все зависящие от него меры для предотвращения оного, освобождается от наказания» (ст. 51)[3].
В первом нормативном акте уголовно-правового характера советского периода – Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. – непосредственно вопрос о добровольном отказе не затрагивался. Регламентируя стадии осуществления преступления, законодатель, в частности, оговаривал, что «преступление считается оконченным, когда намерение совершившего преступление осуществилось до конца» (ст. 17), что «стадия осуществления намерения совершающего преступление сама по себе не влияет на меру репрессии, которая определяется степенью опасности преступника» (ст. 20). С учетом же того факта, что в Руководящих началах и преступление определялось просто как нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным правом (ст. 5)[4], позиция законодателя того времени в отношении добровольного отказа представляется вполне логичной. Не определив в законе круг нарушений, признаваемых преступлениями, не было необходимости говорить и о юридическом моменте их окончания. Сделав акцент на субъективное в содержании преступного, законодатель, естественно, и его уголовно-правовую оценку полностью отдал на откуп правоприменителю, не ограничивая последнего фиксированными критериями оценки неоконченной преступной деятельности[5].
В УК РСФСР 1922 г. в отечественном уголовном законодательстве впервые произошло структурное подразделение нормативного материала на Общую и Особенную части[6]. Вместе с тем из легального определения понятия преступления (ст. 6) вытекала возможность применения уголовного закона и по аналогии. Вероятно, именно такая двойственность обусловливала по-прежнему «сдержанное» отношение законодателя к регламентации добровольного отказа. Принципиально допуская такую ситуацию, он вместе с тем определял, что «покушение… не доведенное до конца по собственному побуждению покушавшегося, карается как то преступление, которое фактически им совершено»[7]. Недостатком данного определения было не только то, что в нем обходились стороной вопросы о возможности добровольного отказа на стадии приготовления, о правовых последствиях добровольного отказа и возможности его в преступлениях, совершаемых в соучастии. Как отмечает Н. Ф. Кузнецова, «такой текст юридически неосведомленному гражданину грозил уголовной ответственностью вместо того, чтобы выполнять функцию, по образному выражению, „золотого моста“, который законодатель строит для начавшего преступление лица»[8]. Это замечание, сделанное в отношении текста ст. 16 УК РСФСР 1960 г., на наш взгляд, в полной мере применимо и к ст. 6 УК РСФСР 1922 г., и к последовавшим за ним нормативным актам уголовно-правового характера вплоть до УК РФ 1996 г.