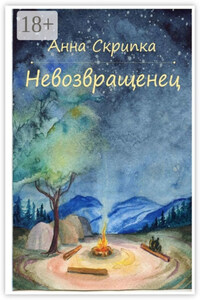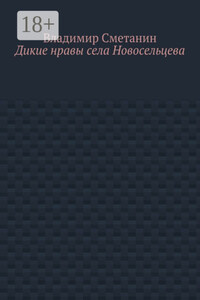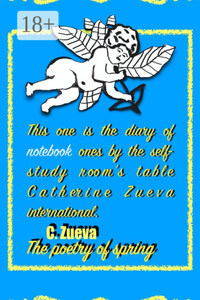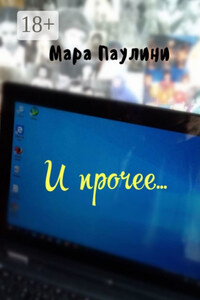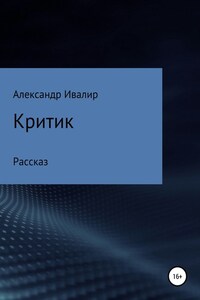Отцова сосна упала. Эпитафия
Над Карпинкой стоит свод из облаков. Там, под этим сводом, вход в Родину.
В этот синий глаз небес меж облаками и землёй и влетит моя душа. Вылечу туда из Липовой аллеи.
Здесь, в начале Аллеи, взрослые всегда разводили костёр. Здесь всегда были чёрные, прокопчённые кирпичи для шашлыков, и мы ходили сюда колоть орехи, собранные на Плотине.
Мы рано их рвали – и почти во всех были даже не белые, сыроватые ядра, а вата.
Мы с двоюродной сестрой Аллой, дочкой дяди Василия, опускали в костёр сухие звонкие палочки с отсохшей корой, белые, гладкие. Их концы тлели и курились, и мы, от страха не сводя глаз с прыгающей оранжевой звезды на конце прута, шли в тёмную глубину вечерней Аллеи.
Это было – и неужели ушло бесследно, или же ничего не оставило, кроме раны, которая то покрывается жёсткой корочкой бесчувствия, то вновь вскрывается и кровоточит?
«Отцова сосна упала»… Приснились мне эти слова, или их действительно когда-то сказала бабушка, но я слышала их внутренним слухом. И я решила поехать туда, где уже никого нет, и ничего нашего не осталось.
Я мало знаю о моём дедушке. Я не знаю никого, кто знал бы его молодым. Моя бабушка, Евдокия Петровна, родилась, когда у дедушки, Ивана Васильевича, уже был первенец. Евдокия Петровна вышла замуж за Ивана Васильевича в том же возрасте, в котором был Иван Васильевич в год рождения Евдокии Петровны. Она всегда называла его «Отец». Перед сном я представляю их. Тех, чья кровь течет во мне, тех, кто дал мне характер и страсть. Тех, кто ушёл от меня, прогнал меня. Прошлое как паразит живёт во мне. Образы, траченные временем, чужие слова, мои мысли сплавляются в фантомы, за которыми я прячусь от одиночества ночи.
Иван Васильевич едет по Дороге. Дорога сухая и калёная, телега движется медленно, но задние колёса звонко стучат, попадая в колею. Над полями синее марево, и нижний его слой почти чёрный. Это насекомые волнуются над клевером и гречихой. Чёрная лошадь всхрапывает, хочет пить. Пот лежит на ней фиолетовыми пятнами. Иван Васильевич едва подёргивает вожжи. У него нет кнута, и густой широколистной веткой он отгоняет оводов. Всё реже Иван Васильевич берётся за ветку, голова его опускается на грудь, и кепка сползает на глаза, открывая голый затылок, и серебряным пятном отражается луч в затылке, и напекает, но Иван Васильевич уже спит, и берёзы на обочине Дороги шуршат, и тень их то появляется на бортке телеги, то сползает к колёсам.
Лошадь давно стоит, но не отгоняет оводов ветка, и лошадь топчется и скрипит зубами в сгустившейся от жажды слюне…
Иван Васильевич просыпается скоро, удивлённый сном, и видит, что лошади нет – она распряглась и ушла. Сон забыт, Иван Васильевич зарывает в сене сброшенный позади телеги хомут и идёт по Дороге, вспоминая сон. Солнце жарит, головы не поднять, перед глазами цветные пятна. Иван Васильевич часто садится на обочине, под деревьями, и даже там пахнет сухой травой. Сердце Ивана Васильевича тяжелеет, как будто набухает, мокнет и стучит в голове и в запястьях, словно густое и вязкое проходит по венам. Иван Васильевич смутно помнит: снился ему пруд за сосняком, смотрит на небо и видит его сквозь разноцветные пятна. Последний раз он садится отдохнуть уже напротив мастерской, на что-то ржавое и горячее, и размышляет, что же они могут делать там такое, почему шумит так долго, монотонно и изнурительно. Иван Васильевич подходит к конюшне, но не заходит туда, а ищет конюха в тени, за конюшней. Чёрные пятна в глазах мешают разглядеть человека, лежащего на траве, головой в тень. Но конюх это, и он говорит:
– Здоров, Иван Васильевич. Лошадь, что, на выходные отпустил, родню повидать?
Иван Васильевич: Здравствуй, Юра, – отвечает, и в занозистую стену рукой упираясь, садится боком, головой тоже в тень попадая.
Тень от репейника качается, и голова от качания мягко кружится.
– Почти дома уже был, – говорит Иван Васильевич, – разморило у последнего поворота, заснул, а лошадь, видишь, к тебе пошла.
– Ну и запрягаешь ты, Иван Васильевич! – конюх давно уже смеётся. – Жену запрягать и то туже надо.
– Жена тут ни при чём, – говорит Иван Васильевич, – а лошадь надо жалеть.
Иван Васильевич не видит конюха за репейником, только мельтешит там что-то, и теперь прыгает блестящее, мокрое – зубы, хохочет конюх:
– Лошадь! На то она и лошадь, что уважать должна человека, а у тебя наоборот.
– Уважать… – медленно, тяжело шевелится язык Ивана Васильевича, опять его в сон клонит. – Уважает, кого боится, а полюбит – за ласку, и цены ей не будет.
Смеётся конюх, вскакивает: – Ну, даёшь, Иван Васильевич! Давай заседлаю тебе, домой-то как?
– Не седлай, – говорит Иван Васильевич, – не по возрасту мне верхом, и не осмелюсь – шумит в голове, будто вода где-то рядом или делают что, и в глазах темно что-то.
– Вольно ж тебе на жаре засыпать, ночью-то что делаешь? – спрашивает конюх, и не отвечает ему Иван Васильевич, поднимается, руками по тёплой стене конюшни.
Дорога сухая, калёная, и в пыльных вихрях летают по ней серые кузнечики. Иван Васильевич ведёт под уздцы чёрную лошадь, иногда останавливается и, прислонившись к потному боку и закрыв глаза, гладит лошадь по долгой морде, чтобы стояла, а потом опять ведёт, и лошадь фыркает от жажды и плюётся на руку Ивана Васильевича…