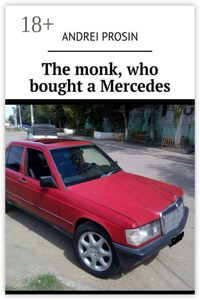В Санкт-Петербурге стояла жара, подобная теплу Сочи и Африки. Комары и мухи не пели и не летали. Лежали в тени и думали над мыслями Фуко и Делёза. Корректировали их, добавляли своё, чаще всего из крови. Фёдор писал роман, включив кондиционер. Моховая улица плыла и сочилась. Бетон исходил желанием. Памятник Петру вдалеке провозглашал Дагестан и Чечню. Трамваи доказывали подобное, представляя двумя вагонами Чечено-Ингушетию или Северную и Южную Осетию. Суки текли, кобели их лизали. Книги Вырыпаева летали по воздуху, охотясь на блокноты и тетради. Ленины и Сталины пили молоко в столовых, сидели на лавочках с девочками, слушали «Зоопарк» и в перерывах, отходя на минуту, отрубали головы тысячам невинных людей.
Фёдор дописал главу, перечитал последний абзац, попрыскался одеколоном, исправил три слова, содержавших в себе ошибки, и сказал:
– Умирать – есть воду и пить хлеб.
Он покурил, посыпал голову пеплом и за пять секунд отжался шесть раз. Набросал ещё: «Ночь выживает из ума, ходит по улицам, поёт песни, просит подаяние, ест чёрствый хлеб, отнимает кости у собак и засыпает у забора, укрывшись лопухами и предсмертными словами Адама и Евы, обнявшимися и танцующими канкан». Покурил, чтобы выудить ещё из головы текст, но сигарета не сократилась, а ушла в рот, так как новые слова оказались большими и сильными. Он прекратил ловлю и начал есть чипсы, лежавшие на столе. Грыз их медленно, представляя вместо них сухарики. Даже семечки, так как это есть кайф из Армении родом. Умыл ноги утром, вылил ночь в ванную и забил косячок.
Через час, выйдя из дурмана, встал с дивана, позвонил Страхову и произнёс:
– Я понял Акутагаву: он убил себя, чтобы ему не пришлось уничтожить весь мир.
– К чему ты мне это говоришь? – удивился тот.
– Я примеряю на себя его жизнь.
– Он умер потому, что не мог больше жить.
– Он мог гораздо больше, чувствуя это, находя в себе. Он не писал романы потому, что сам был романом, бомбой, разлетающейся рассказами – осколками по земле.
– Интересная мысль. Ты закончил роман?
– Нет, вот хочу написать, что слава, деньги и женщины – эвфемизм, они тени чего-то большего, предстоящего.
– Ты про космос?
– Ну да.
Он выпил сока, повесил трубку и включил песни «Дорз». Начал балдеть и кружиться над Афганистаном в виде пчелы, желая ужалить страну как один сплошной и гигантский мак, чтобы забалдеть или умереть. Часы кружились в качестве циркового велосипедного единственного колеса, то вперёд, то назад. «Ноги вращают время, понятное дело, но велосипед – это часы и спидометр, показывающие время и пространство, и педали – дату в часах, взятых из картины Дали, – крутят ноги, толкая время вперёд. Это если не в цирке: не в искусстве самом». Ему позвонили из радио «Достоевский FM» и напомнили, что ему завтра выступать, читать куски из романа. Он положил телефон, сел за стол и начал править на компе свой текст. Внёс в его плоть: «Бродский в поэзии – я, и оба мы отсидели, и оба прошли через первоначальный приговор: смертную казнь. Удивительно? Да, но психиатрическая больница – это повешение или отсекание головы. Формально она остается, но её нет. Весь вопрос в том, может ли она вырасти снова, здоровая, качественная, хорошая, как кочан и арбуз». Он выдернул заусенец, выдавил кровь, вытер её платком, выпил стакан воды. Высморкался в ванной, причесал остатки волос. Малость повеселел, потому позвонил Марии, позвал её к себе, а сам поставил турку с кофе на огонь. Через пять минут уже хлебал его и думал о последнем полотне Ван Гога, стремящемся в цифру ноль.
– Ну, придёт Мария, вдохновит на пару полезных строчек, даже больше, пускай. Выпьем вина в кафе «Вифлеем», но это после читки на радио. На улице моего имени посидим, продавим немного лавку собой, опадём парой листьев, погрузимся в мешок, окажемся в куче листвы и будем навсегда сожжены.
Фёдор подумал: «Честь человека начинается там, где кончаются деньги, их надо перемешивать порой и чередовать, варить из них суп и кормить им в церкви бомжей». Включил телевизор и начал смотреть фильм о себе – случайно попал на него. В какой-то момент даже заплакал, когда речь зашла о его смерти, но довольно кивнул в момент пушкинской речи, понимая, что это крест: Пушкин-Толстой, Лермонтов-Достоевский. Переключил после конца кино на музыкальную передачу, послушал новинки техно, покачал головой. «Любая война в истории, любое движение головы, любой завтрак, обед или ужин, любой чих или кашель, любая поездка направлены на борьбу, на победу, на космос, на поглощение его, постижение, внедрение себя в него, только в различных качествах и обличиях, и они описаны в гороскопах: лев, телец, водолей или рак борются, чтоб завоевать этот мир». Он вышел на улицу и сел на лавочку возле дома, рядом сидела девушка с пепельными волосами, она попросила его прикурить, выдохнула в левую сторону и представилась Надей. Сказала, что читала его романы, в целом, они ей нравятся, но не всё в них поняла. Он взял её за руку, она её не отдернула, просто заулыбалась в сторону. Спросила:
– Что сейчас пишешь?