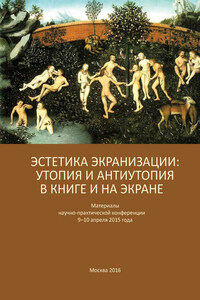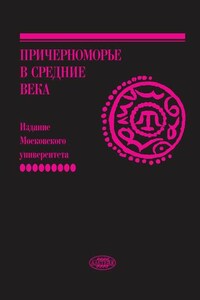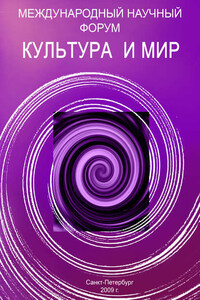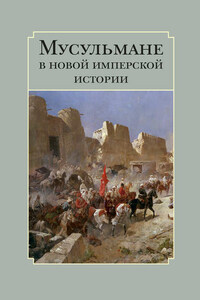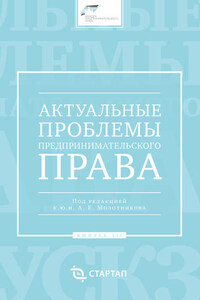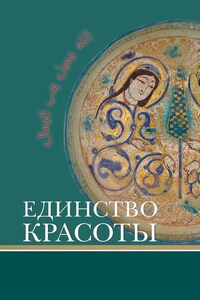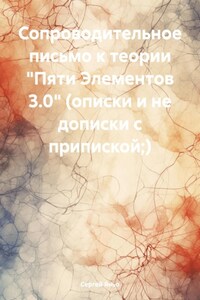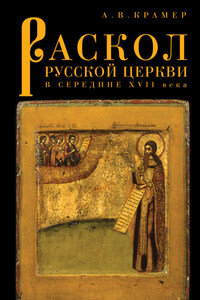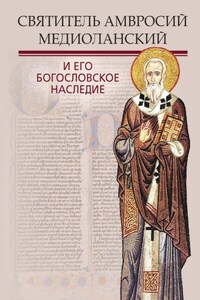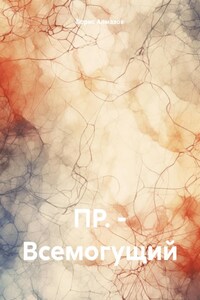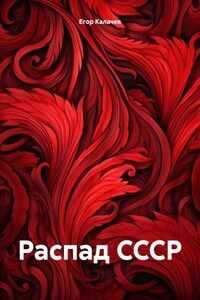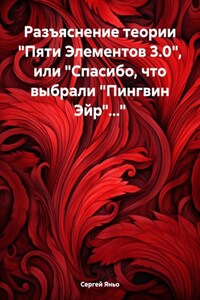Эксперимент по созданию генетически «нового человека»: между утопией и антиутопией
Бугаева Л.Д., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
Начало XX века – это время интенсивного развития новых технологий и не менее интенсивное построение утопических моделей будущего. В утопической литературе этого периода на первый план, однако, выдвигаются не проблемы технического развития, но проблемы биологии, считавшейся тогда царицей наук: получает развитие тема евгеники, биологического моделирования человека, в литературе берущая начало в «Утопии» Томаса Мора и «Республике» Платона, а в науке оформившаяся как учение в 1860-е гг. в работах Фрэнсиса Гальтона[1]. Впрочем, обсуждение проблем человеческой селекции оказывается тесно связанным с обсуждением эволюционных теорий человека и общества в целом. Именно конкурирующие теории эволюции становятся центральными в дискуссиях о стратегии общественного развития. Эволюционных теорий, циркулирующих в обществе и актуальных для культурно-художественных интерпретаций, собственно говоря, четыре: социал-дарвинизм (Спенсер, Гальтон), «творческая эволюция» (Ламарк), «этическая эволюция» (Гекели), кооперативная эволюция (Кропоткин).
В основе биологической социологии Герберта Спенсера лежит сравнение общества с живым организмом. Спенсер утверждает, что общественная организация – костяк этого организма, а национальное сознание – его жизнь[2]. Тогда общество есть высшая форма развития природных организмов, в свою очередь претерпевающая эволюцию. «Творческая эволюция», по Ламарку, – это совершенствование организма в результате «упражнения органов», то есть реакции организма на внешние раздражители. Все живое, по Ламарку, стремится к совершенствованию, это стремление и есть двигатель эволюционного процесса. «Этическая эволюция» Томаса Генри Гекели (его часто называли «бульдогом Дарвина») – ответ Мальтусу и описанной им ловушке, в которую попадает человечество по мере своего роста. По мнению Гекели, в случае борьбы людей за существование, в отличие от борьбы конкурирующих между собой животных, имеет место «этический процесс», конечным этапом которого является не выживание наиболее приспособленных, но приспособление для выживания как можно большего числа людей и выживание более достойных, с точки зрения этики[3]. «Кооперативная эволюция» Петра Кропоткина – развитие проглядывающей в учении Гекели идеи кооперации людей в «этическом процессе», так называемой «Взаимной Помощи»[4].
Эволюционные идеи и утопические модели построения общества получили особое развитие в творчестве Герберта Джорджа Уэллса, доктора биологии, закончившего Кингс-колледж Лондонского университета – тот самый, где ранее преподавал Дарвин, а во время учебы Уэллса – Гекели, который и сыграл решающую роль в формировании взглядов будущего писателя на эволюцию и евгенику. По словам Уэллса, «год, который он провел, слушая лекции Гекели, стал для него самым важным в плане образования годом жизни» («that year I spent in Huxley's class was, beyond all question, the most educational year of my life»[5]). В начале XX века Уэллс – фабианский социалист[6] и, как многие фабианцы, включая Джорджа Бернарда Шоу, – член созданного в Лондоне в 1907 году Евгенического образовательного общества, позднее преобразованного в Евгеническое общество и известного в настоящее время как Институт Гальтона. Уэллс – сторонник в основном негативной евгеники, то есть, контроля за рождаемостью и ограничения рождаемости генетически неполноценных людей: возможность улучшения человеческой породы он связывает не с селекцией брачных партнеров, а с принудительной стерилизацией «неудачных» экземпляров[7]. Тем не менее, в поле зрения писателя попадает и позитивная евгеника: человеческая селекция, создание «сверхчеловека». Во второй половине XX – начале XXI века поднятые Уэллсом темы – эксперимент по созданию «нового человека», сословная структура общества, в основе которой лежит биологический фактор, – становятся предметом рефлексии кинематографа. Ключевыми в этом плане являются «Остров доктора Моро» {The Island of Doctor Moreau, 1896) и «Современная утопия» {A Modern Utopia, 1905), хотя темы моделирования человека, эволюции живых организмов (человека, насекомых и т. п.), вырождения человеческой расы присутствуют и в других произведениях Уэллса.
«Остров доктора Моро» (1896) – фантастический антиутопический роман, проигрывающий темы трансплантации органов и вивисекции для «улучшения» человека – вышел в самый разгар протестного движения против вивисекции. В это время активно действует американское общество против вивисекции (AAVS), созданное в 1883 году, и закладываются основы Британского союза за отмену вивисекции (BUAV)[8]. Уэллс, выступавший адвокатом евгенической программы изменения человека, – противник вивисекции. В романе «Остров доктора Моро» рассказчик, Эдвард Прендик, сталкивается с результатом «человекообразовательного» процесса – животными, «которым нож придал новые формы». Отталкиваясь от предположения, что «главное различие между человеком и обезьяной заключается в строении гортани, в неспособности тонкого разграничения звуков – символов понятий, при помощи которых выражается мысль», то есть, сводя различие между человеком и животным исключительно к физиологии, Моро экспериментирует с возможностями бога-создателя. Его задача – изменить «формы мозга», то есть, улучшить умственное развитие, и единственное, что ему пока не удается определить, – «нечто лежащее в самой основе эмоций». В романе, что не удивительно, если учитывать отношение Уэллса к вивисекции, эксперимент не удался, и зверолюди после убийства доктора стремительно регрессируют.