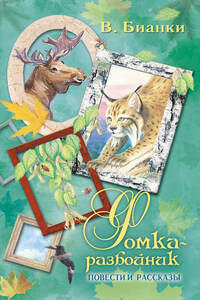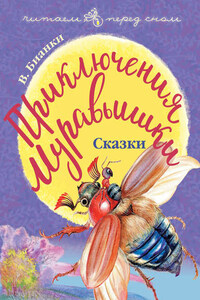Я пришел домой с прогулки, вынул из кармана коробку с ватой и осторожно открыл ее.
В вате лежало маленькое яичко – такое хрупкое на вид, что я сразу не решился взять его огрубевшими пальцами. Выкатил его из коробки себе на ладонь.
Яичко было прекрасно, как жемчужина, вытянутой, удлиненной, совершенной формы.
Сияющая, оливкового цвета живая жемчужина! Цвета свежих ивовых листьев. Без пятнышка, без малейших крапинок.
Внутри нее теплилась маленькая жизнь – неведомая, таинственная, еще не готовая родиться на свет. Просвечивала и мерцала сквозь тонкую хрупкую оболочку нежно-нежно-розовой теплотой.
Нет красок, чтобы передать на бумаге или полотне живую прелесть сочетания этих цветов. На картине розовое смешивается с оливковым – получится муть, грязь. Здесь розовое и оливковое составляют одно целое, но чудесным образом не сливаются, существуют сами по себе: розовое – чтобы в свой срок превратиться в крылатое, поющее живое существо; оливковое – чтобы исчезнуть, рассыпаться в прах после его рождения.
У меня на ладони покоилось соловьиное яичко.
В моей коллекции уже были соловьиные яйца, но все шоколадного цвета. Только сегодня мне удалось, наконец, найти под кустом в заросли и в и кудрявых ольх гнездо с оливковыми яйцами.
Их было пять в гнезде. Я взял только одно, чтобы самочка не покинула гнезда и вывела остальных четырех птенцов. А мне достаточно и одного яйца. Осенью я повезу свою коллекцию в город. Горожане редко вспоминают о птицах. Пусть-ка полюбуются на такую красоту.
Так я думаю, бережно держа на ладони оливковое с розовым яичко.
Свободной рукой я достаю из стола заостренные с одного конца стеклянные трубочки. Выбираю самую тонкую из них, придвигаю к себе блюдечко, достаю булавку.
Остается только сделать одну маленькую дырочку в яйце и выдуть его, выпустить его жидкое содержимое на блюдечко. Но тогда исчезнет розовое! Одним соловьем станет меньше.
Правда, соловьев много вокруг деревни, где я живу. Как наступили долгие дни и теплые белые ночи, воздух наполнился ивовой белой пушицей, – принялись они щелкать круглые сутки.
Вчера днем ко мне в окно доносился свист соловьев.
– Когда же они спят-то? – удивленно спросил меня Смирька, восьмилетний соседский парнишка.
А вечером, когда в одиночестве меня тоска взяла и я уселся на крылечке – покурить, подумать, как-нибудь разобраться в себе, – как они свистели, как щелкали!
Гляжу, и Смирька ко мне подсаживается: и ему не спится, не знает, куда себя деть.
Ну, пусть сидит, думаю, он не мешает.
Сидим, думаем каждый про свое. И соловьи свое поют.
Вдруг резкий крик дергача резнул слух.
– Грязь-грязь! Грязь-грязь! – тужится, скрипит сквозь туман дергач на сыром лугу.
– Сало! Сало! Пек, пек, пек! – легко, бархатисто выводят в кустах соловьи. – Сало!
– Грязь! Грязь! – орет дергач.
Так они долго, без устали спорят друг с другом, и мы со Смирькой невольно вслушиваемся.
Сперва кажется: все соловьи поют одинаково, и им ужасно мешает скрип дергача. Но стоит только немножко вслушаться, и вот дергач – сам по себе и соловьи – сами по себе. Сразу и вместе они, и отдельно. Как розовое и оливковое в яичке.
Соловьиные песни тоже разные. Один поет совсем близко – в лядинке через дорогу от нас – в сыром лиственном леску. Его голос слаб и высок. Некоторые ноты выходят у него резковато; он даже срывается иногда с голоса: совсем еще молод, видно.
Голос другого ниже и сильней, песни дольше. Он уверенно берет трудные низкие ноты и не срывается на верхах. Он дальше: под горкой, за банями. А кажется – тут же в лядинке поет. Хороший музыкант.
Но когда запел третий, – душа всколыхнулась!
Ничего, что он всех дальше от нас – через поле, в зарослях ив и ольх; каждая нотка его песни слышна отчетливо. Его густой, мощный свист легко покрывает натужный скрип дергача. Какой певец!
Его клокочущие трели великолепны. И как смело он переходит от томных, за душу берущих низких нот к дерзкой «дешевой дудке»![1]
Замер на низких и вдруг – фиулит! – вырвал свистом, да с каким росчерком! И замолк.
– Здорово? – в восхищении спрашиваю Смирьку.
– Дивья! – притворно пренебрежительно говорит Смирька. Но и он доволен. И вспоминает из басни: —А верно, что «петь великий мастерище».
Какая уж тут тоска: самому хочется петь и жить, жить – радоваться!
Очнулся я от дум. На ладони оливковое яичко. Нет, не стану я выдувать его! В нем – птенчик нашего замечательного певца. И кто знает: не заключен ли в этой тонкой скорлупке такой же чудесный дар песен?
Отнесу яичко обратно в гнездо, в заросль.
В заросли крики Смирьки и звонкий визг его сестренки.
И скрипучий, неприятный птичий голос.
Спешу напролом через кусты и хворост. Но я опоздал.
– Гляди, как я в нее! – кричит мне Смирька. – Прямо в лоб шмякнул!
Его сестренка смеется и грязными пальцами размазывает по своему розовому лицу крошечный желток.
Знакомое гнездо под кустом выворочено, в нем пусто.
– Смиреха! Смиреха! – говорю я с тоской. – Что ты наделал! Ведь это гнездо того самого соловья, которого мы вчера слушали.
– Не! – весело откликается Смирька. – Это вон какой птюшки, вон скрипит в кусту!