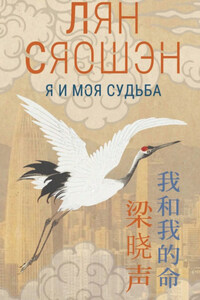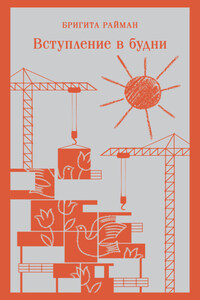Ах, Бен, Бен, где ты был год назад, три года назад? По каким улицам ходил, в каких реках купался, с какими женщинами спал? Неужели это всего-навсего заученный жест, когда ты целуешь меня в ухо или в сгиб локтя? Я с ума схожу от ревности… Настоящее меня не пугает… но твои воспоминания, от которых мне не спастись, картины в твоем воображении, которых я не могу увидеть, боль, которую я с тобой не делила… Я бы хотела прожить три жизни, чтобы наверстать то долгое-долгое время, когда тебя не было.
Мой испуг, когда ты сказал, что двенадцать лет назад был однажды в нашем городе, сидел в зале ожидания… а я, в каких-нибудь ста метрах оттуда, в школе – разве я не могла стоять на перроне, разве не могла уже тогда, двенадцать драгоценных лет назад, встретиться с тобой?… Ах, ты бы меня и не заметил, я училась в девятом классе и была до ужаса уродливой, кожа да кости да шапка волос, я была невинна и впервые влюблена… не в тебя. А спустя семь или восемь лет, снова проездом в нашем городе, ты шел по Старому рынку, шел с женой – кажется, в июле, у нас уже начались студенческие каникулы, – и ты был всего одной из тех пестрых фигурок внизу, на которые я смотрела с лесов на высоте шестого этажа…
Где ты был, когда меня вызвали на экзамен и я чуть не умерла со страху? Почему ты не держал меня за руку тогда, в коридоре университета? Почему не ты сидел у моей постели, когда я болела? Почему не ты танцевал со мной по вечерам в студенческой столовке – низкий барак, жарко, накурено, магнитофон, голос Элвиса, вихлявого короля рок-н-ролла, – не ты пил со мною пиво из одной бутылки? Кто-то другой, уже не помню его лица… Это несправедливо, Бен, так долго быть без тебя, без твоих губ, без твоей маленькой твердой руки, которую ты, когда мы идем рядом, кладешь мне на шею… Сотни одиноких ночей у окна в парк, что зеленел над братскими могилами, а все остальные – кто где: мои родители за границей, Важная Старая Дама умерла, Вильгельм в Дубне, где-то под Москвой, и этот человек в пивной, а может, у девушки, почем я знаю… А где ты был тогда, в мае – цветущие вишневые деревья, проселочная дорога под солнцем, – в последний день войны, когда пришли русские?..
На заре в соседском саду раздались выстрелы. Вильгельм нашел убитых, они лежали на газоне: двое детей, похожая на куклу женщина и главный инженер. Петтингер был славный, полноватый молодой человек, он ненавидел военную форму, зато, как форму, всегда носил брюки гольф, блекло-полосатую рубашку и галстук-бабочку, каждое утро на велосипеде, бодро крутя педали, он отправлялся за город, на прокатный стан, укрытый среди сосен и маскировочных сетей, дочернее предприятие рейнского сталепромышленного концерна… Вильгельм готов был поклясться, что этот милый сосед, нежный отец вечно щебечущего семейства, даже понятия не имел, как держать пистолет.
На лбу маленькой девочки кишели черные муравьи, вишни цвели, как сумасшедшие, воздух был полон низкого, возбужденного жужжания пчел. (В последнюю неделю фугаска угодила в бомбоубежище на вокзале. Они работали в резиновых перчатках, пьяные в дым, из первого же пролома на них обрушилась лавина трупов, и Вильгельму стало плохо – он сказал, что это от водки.) Он перевернул женщину, которая лежала, широко раскинув руки, а под нею – грудной ребенок.
Сестра Вильгельма, точно хорек, проскользнула между планками забора. «Катись отсюда!» – крикнул он, схватил ее за руки и за ноги, перебросил через ограду, и она на четвереньках поползла по траве, ругая его на безопасном расстоянии пронзительным девчоночьим голоском.
Днем опять загрохотала артиллерия, фрау Линкерханд в платье из домотканого полотна, напоминавшем монашеское одеяние, с волосами, собранными в пучок почти у самой шеи, бродила по дому и громко молилась. Она смиренно вдыхала доносившийся из передней запах бедности. Хныкал ребенок, за открытой дверью в кухне беженки спорили из-за кастрюли, их перебранка и силезские ругательства эхом отдавались на лестнице.
В голубой комнате у окна стоял Вильгельм и смотрел сквозь жалюзи, полоски света от них ложились на его лицо, на голубой ковер, на медово-желтую мебель. Его растрепанная загорелая сестренка, сидя на корточках, строит в песочнице чудесный сказочный замок с бойницами, башнями, высокими стрельчатыми окнами, изредка в воздухе с воем проносится снаряд – звук, похожий на свист косы, – девочка бросается ничком, но не страх заставляет ее припасть к земле (страх придет только позже, годы спустя, прилетит на треугольных крыльях реактивных истребителей), а Вильгельм хохочет над хитрым зверьком, что притворяется мертвым, покуда не раздастся оглушительный удар где-нибудь в развалинах центра города – это значит: опасность миновала. Игра повторялась вновь и вновь, согнуться под воющим сводом, опять выпрямиться, и все это с выражением серьезности и усердия на лице, неваляшка, подумал Вильгельм, молодец кроха! В конце концов его раздосадовало ее ничуть не испуганное лицо: она так же ничего не ведала, как мартовский заяц, который не понимает, что шелестящая тень над полем – это канюк.