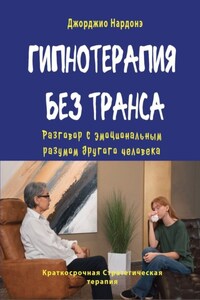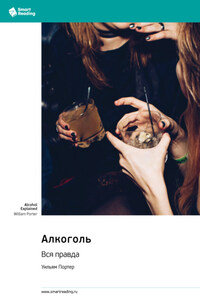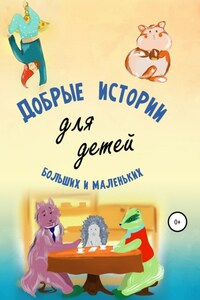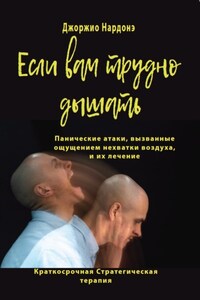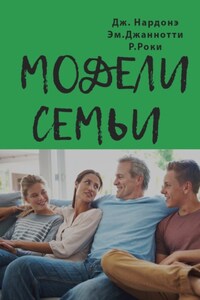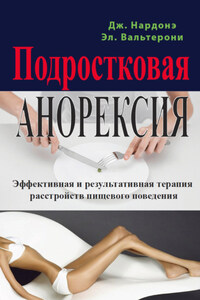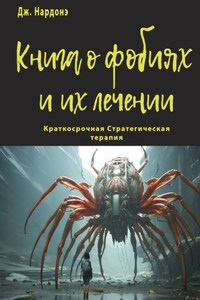Большая шумная толпа ожидает выступление известного докладчика. Среди присутствующих – врачи, психологи и психиатры – публика, как правило, не слишком любезная, особенно по отношению к тем, кто представляет нечто, объявленное инновационным.
Герой выходит на сцену, спокойный и элегантный. Он молчит. Только часть аудитории замечает его и садится, глядя на него, в то время как остальные продолжают разговаривать между собой. Дойдя до своего места, оратор останавливается и, не говоря ни слова, начинает наблюдать за публикой. Его взгляд похож на луч света, который перемещается по залу, освещая его части одну за другой. Через несколько секунд, словно привлеченные мощной энергией, все присутствующие затихают и садятся, направив на выступающего все свое внимание.
Своим поведением эксперт по коммуникации создал мощный эффект внушения, уже хорошо известный как софистическому искусству мягкого убеждения[1] (Untersteiner, 2008), так и римскому ораторскому искусству (Cicerone, 2015): ему удалось утвердить собственную харизму перед публикой. Примерно так же заклинатель змей «гипнотизирует» кобру движением головы и взгляда, а не звуками флейты, как принято считать; змея во время этих представлений поднимается, неподвижно глядя на своего дрессировщика, и на самом деле она практически ничего не слышит. Приведём ещё один пример. Человек, страдающий акрофобией, то есть боязнью высоты, под руководством опытного психотерапевта выполняет заданные действия. При определенной позиции рук он давит на большой палец до боли и наконец-то может взглянуть перед собой на горизонт с небоскреба Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Затем он постепенно опускает взгляд все ниже. И так, скользя взглядом справа налево с высоты более двухсот метров, человек ощущает собственную способность свести на нет то, что до этого было инвалидизирующей его фобией[2].
Что общего между этими тремя, казалось бы, совершенно разными и по-своему удивительными случаями? Поведение эксперта по коммуникации, заклинателя змей и психотерапевта влияют на то, как публика, кобра и пациент воспринимают реальность. Они направляют опыт этих субъектов, и, следовательно, их эмоции, мысли и поведение, и делают это, использую определенный способ коммуникации. Невербальный, паравербальный и вербальный способы коммуникации способны вызывать у человека состояние, в котором он открыт к изменениям, и это состояние в сочетании с намеренно предписанными изменениями создаёт эффект, который может показаться почти магическим. Пол Вацлавик назвал его «гипнозом без транса», который в психотерапевтическом применении становится гипнотерапией без транса».
Немало коллег, использующих гипноз, склонны отрицать суггестивную реальность и сводить ее исключительно к гипнотическим феноменам (Loriedo, Zeig, Nardone, 2011); в действительности же суггестия и гипноз – близкие, но очень разные явления. Если в случае с гипнозом у нас есть возможность провести объективные измерения, такие как замеры ритмов мозговой активности с помощью электроэнцефалограммы, и использование строгих шкал измерения гипнотической восприимчивости (Weitzenhoffer, Hilgard, 1959; Yapko, 1990; Nash Bamier, 2008), то в случае с суггестией измерение гораздо сложнее, поскольку это явление имеет значительно больше вариантов и проявляется в состоянии полного бодрствования и нормальной активности вовлеченного субъекта. Если гипнотическое состояние может быть связано с определенными предикторами, особенно в случае невербальных проявлений, эти сигналы не обязательно присутствуют в состоянии суггестии. Примером может служить «эффект толпы», который изучал Густав Лебон в начале прошлого века. В таком состоянии суггестии у индивида, «погруженного» в массу людей, объединенных одной целью, ослабляются механизмы торможения, и он приспосабливает свои индивидуальные действия к поведению группы. Говоря словами Лебона (1895), индивид становится «каплей воды, подталкиваемой потоком». Множество отдельных капель, однако, вместе образуют новую неудержимую сущность: волну, которая сметает то, что ей противостоит. Этот феномен, как хорошо известно социальным психологам, лежит в основе преступлений, совершаемых массами. В качестве ещё одного доказательства того, что внушение трудно поддается объективному измерению, хотя это явление постоянно присутствует в нашей реальности человеческих существ, находящихся в постоянных отношениях с самими собой, другими людьми и миром, позвольте мне рассказать об одном недавнем случае. В университете Линк (Link Campus University – негосударственный университет, административный корпус которого расположен в Риме – Прим. пер.) один известный ученый представил доклад о результатах исследований так называемых зеркальных нейронов. В перспективе возможного научного сотрудничества мы смогли побеседовать и обменяться опытом. Во время обсуждения я спросил исследователя, обнаруживал ли он когда-нибудь активацию зеркальных нейронов у испытуемых в состоянии суггестии. Он, с типичным для настоящих исследователей энтузиазмом, ответил, что было бы очень интересно провести подобный эксперимент, и спросил, как можно объективно и количественно измерить наличие состояния суггестии. Я, в свою очередь, сказал, что в настоящее время не существует объективных инструментов, способных измерить такое явление, кроме тщательного наблюдения за изменениями в чувствах и поступках людей, находящихся в этом состоянии. Исходя из этого, мой собеседник заключил, что подобное исследование провести невозможно. Этот обмен мнениями выявил одно из самых коварных ограничений научного исследования, а именно его сведение к количественным методам и, следовательно, к изучению явлений, в отношении которых могут быть применены эти методы. Таким образом, складывается ситуация, когда все исключительно качественные явления, которые нельзя операционализировать, становятся как будто неважными или даже не существуют, поскольку они исключены из исследования (Nardone, Milanese, 2018; Castelnuovo, Molinari, Nardone, Salvini, 2013); суггестивные явления, не поддающиеся количественной операционализации, игнорируются, даже несмотря на то, что их эмпирическое подтверждение часто поражает.