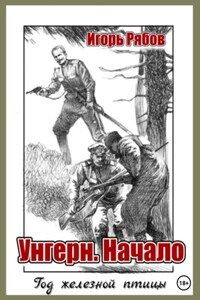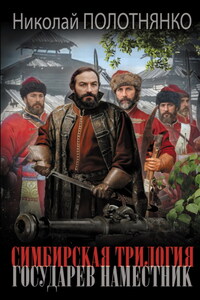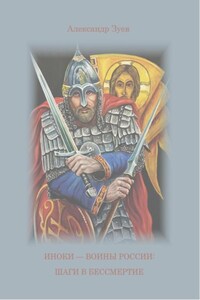Губернский город Новониколаевск.
1921 годъ, 16 сентября.
К вечеру ветер переменился. Сейчас он дул легкими порывами прямо в лицо, тихо и ласково играл волосами. Роман Федорович Унгерн с удовольствием подставил его прохладному дыханию покрасневшие, невыспанные глаза. Помаргивал, досадливо ощущая с каждым движением век, нечто вроде мелкого песка на глазной поверхности. Ветер погладил его по лицу своими невесомыми ладонями, шевельнул нечесаные волосы, шустро забрался под отросшую бороду, потом за стоячий воротник монгольского халата и приятно похолодил вспотевшую грудь. Он дышал ветром, как пил и с каждым вдохом расходившееся сердце стихало и постепенно пошло своим ходом «так-тук». Роман Федорович бесстыдно зевнул, даже и не думая сдерживаться, лишь мазнул по заветренным губам рукавом халата. Машинально потрогал грудь, в том месте, где обычно крепилась колодочка Георгиевского креста, пощупал складочку материи с двумя крошечными дырочками, внутренне позлорадствовал. Товарищи загодя совещались, когда снять крест, до или после расстрела. Решили, что после, а перед тем произвести фотографирование. Теперь пускай поищут всласть. Крестик-то он выбросил в уборную; долго стоял над ямой, морщил лоб, подбрасывал на ладони, тер подушечкой пальца полинялую ленточку, думал, пока в дощатую дверь не постучал конвоир-красноармеец. Тихонько так постучал, еще и прикашлянул деликатно, трусил по всему видно, сволочь.
Этот стук и помог решиться, он, словно очнулся – подумалось, раз вся Россия в дерьме, так, что за дело до креста. Пускай отправляется туда же.
Легко и вольно стоялось под освежающим ветерком, который вовсю хозяйничал на аллеях запущенного городского парка. Правда, сказать, что парк был просто запущен, наверное, было нельзя, разве, что из особенной деликатности. Бузина, совместно с папортником и юными осинками, жадно захватывали любое свободное место. Прелая лиственная падаль надежно укрыла собой дорожки, мощеные плоским булыжником. Эффект, само собой, усиливали и плоды жизнедеятельности народонаселения в виде массы папиросных обкурков, ныряющих среди океана семечной шелухи, припорошенной еще и выцветшими бумажками от карамели.
Было тихо так, что грустное поскрипывание деревьев. казалось, остается последним звуком на земле. Птицы, обычно вольготно себя чувствовавшие в буйно заросшем парке, угрюмо затихли. Их черные бусины-глаза внимательно разглядывали людей, наводнивших благодатное пространство земли, преющей под толстым слоем старых листьев, щедро дарующее пропитание в виде жирных червей-выползков и жучков, самой разнообразной конфигурации. Люди чрезвычайно суетились, передвигались взад-вперед, строясь и перестраиваясь, переговаривались, ругались и командовали, но как-то вполголоса, приглушенно, как это бывает при покойнике. Птицы наблюдали за этим, недружелюбно щурясь.
Роман Федорович был, как бы вне всего этого коловращения, – поставили средь поляны и опасливо отошли, наблюдая за ним с таким сосредоточенным вниманием, будто за поплавком, замершим посреди мутного озерного ила. Постоял, опустив руки в карманы – надоело. Заложил руки за спину, покачиваясь с каблука на носок. Прищурился на двоих ближайших, одетых близнецами в лиловые пиджачки, кожаные картузы и защитные штаны с мешочком на заднице. Те смущенно глазели в ответ, не мигая, и только беспрерывно передвигали кобуры на поясе, – у одного с тяжелым бельгийским «бульдогом», у второго вовсе с чем-то устрашающим, представлявшим собой нечто вроде продукта скрещивания старинного дуэльного пистолета и скорострельной морской пушки.
– Дай закурить что ли! – грубовато сказал один, обращаясь к товарищу, и оба с облегчением отошли, гремя спичками.
Лечь хотелось адски, – двое суток без сна, сначала допросы, спешная готовка материалов для суда, потом самый суд – семь часов сидения на скамье и стояния перед такими типами, за которых он бы раньше и подошвы сапога, самого последнего своего казака не дал бы.
Он помнил этот парк, вспомнил, что был здесь однажды, еще до войны. Эти воспоминания цветными точками пульсировали в мозгу, но никак не желали развернуться в картинки. Может быть, это было не в этой жизни? Или в этой, но что тогда случилось с его душой? Почему он ничего не помнит из того времени, когда мог смеяться? Он медленно смежил веки, так медленно, что свет уходящего дня заметался между смыкающимися ресницами радужными огоньками. Остался только скрип деревьев, который бился в ушах, словно муха в спичечном коробке. Потом пропал и скрип, а вместо него в уши полилась музыка. Вальс «Дунайские волны», – Роман Федорович услышал его солнечное звучание так ясно, словно не было прошедших девяти лет. В голове вспыхнуло.
* * *
Пары неслись над плотно подогнанными досками площадки для танцев с такой невообразимой легкостью, что было полное ощущение их невесомости. Воздушно легкие разноцветные платья, газовые шарфы, нарядные мундиры – все это летело, вращалось в празднично-беззаботной круговерти. Смеющиеся молодые лица офицеров, сияющие от восторга глаза юных барышень, их жемчужные улыбки, сверкающие из-за пунцовых губ, – казалось, что само солнце передумало садиться и зависло над деревьями Александровского сада, чтобы полюбоваться праздником молодости и танца. Духовой оркестр пехотного полка, в новых мундирах и белых перчатках, сидя в беленькой, изящной беседке, исполнял так, что и самой столице не стыдно было предъявить. Мелодия то била фонтаном, заставляя сердце и душу трепетать от восторга, то текла плавно, как медленная лесная речка, уносясь к тихому сентябрьскому небу, золотисто-голубой свод, которого маленькими серыми молниями чертили шустрые стрижи. Итак, вся центральная площадка была прочно во власти шумной и легкомысленной молодежи, еще полной самых разнообразных надежд.