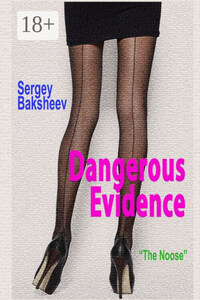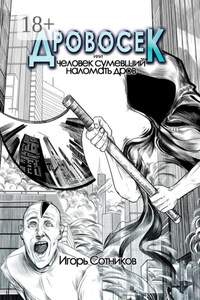Солнце наконец зашло за гору, океан прекратил нестерпимо сверкать, тени от платанов стали мягче. По променаду вдоль каменистого пляжа бежали в ярких футболках и шортах возвращавшиеся с работы клерки, мальчишки с криками забрасывали мяч в баскетбольное кольцо, с погрузившегося в тень песочного пляжика ушли последние туристы. Ничего этого я не видел – на окнах были опущены белые жалюзи, – но для того, чтобы знать, не обязательно видеть. Это происходило каждый день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Сказал бы, и из года в год, потому что и это правда, но мой личный первый год на этом острове еще не закончился, так что с этим утверждением я пока погожу.
Через час стемнеет. Надо выбираться из своей норы. Я бросил на пол новый криминальный романчик Алекса Куза «Бритва Оккама» – время умственных упражнений закончено, пора переходить к культу тела. Побегать босиком по песку в бухточке – двадцать кругов, двенадцать километров, один час; поплавать в холодной, густой, как пересоленный суп, океанской воде – четыре круга, чуть больше километра, тридцать минут. И так каждый день в пять часов вечера, в любую погоду, кроме шторма. Я не самоубийца, я пенсионер, мне уже за шестьдесят, и если поддерживать себя в форме не сейчас, то вообще когда? Наплававшись, я пошел в душ тут же на пляже – лучше соль смыть сразу, чем потом стряхивать ее, мелкую, с лысины и выковыривать из-за ушей.
Вернувшись к дому, я не поднялся к себе, а устроился на площади за одним из вынесенных из бара столиков среди таких же стариков, получил свою бутылочку пива – крохотную, всего двести миллилитров, совсем детская порция, – и газеты: «Дневник», «Новости столицы» и «Трибуну». Это мой ежевечерний ритуал.
Меня зовут Гонсалу Араужу Гимарайнш да Кошта, но на площади возле церкви Чудес Господних завсегдатаи крохотного бара без названия зовут меня Гонзу Лейтор – Гонзу Читатель. Я же зову своих приятелей голубями – не вслух, конечно, боже упаси. Но вы бы согласились, что они очень похожи на серых городских бездельников.
Эти мелковатые мужички собираются стайками на площади чуть ли не с раннего утра, важно прохаживаются, кренясь из стороны в сторону при каждом шаге, кружат группками, воркуют. В середине дня – порск! – разлетаются в разные стороны по домам обедать, а после сиесты снова слетаются сюда и снова кружат по выложенной морской галькой площади. Они громко приветствуют друг друга, будто только что вернулись из дальних заморских краев, обсуждают дела чужих племянников и двоюродных сестер и хвастаются достижениями своих сыновей, которые тоже вот-вот перейдут в категорию пенсионеров и окажутся тут же. Еще днем, пока светло, они играют на площади в домино, в карты или в русское лото. Но в лото уж играют всей большой компанией. Рассаживаются с карточками, закрывают циферки монетками и камешками, и кто-то один, самый ответственный и хорошо видящий, выкрикивает номера, вытаскивая деревянные бочонки из мешка: «Девяносто! Два! Четыре! Барабанные палочки! Шесть! Девочка! Восемь!..»
* * *
Сегодня все было как всегда. Зажглись разноцветные гирлянды на деревьях и Вифлеемские звезды на фонарных столбах, только что отгуляли Рождество, и неостановимый праздник катился в сторону Нового года. Круглая и желтая, как сыр, луна выскочила из-за растворившейся в черном небе горы и разбросала по океану сверкающую рыбью чешую. Бар наполнился местными завсегдатаями и туристами из двух гостиниц. По телевизорам в зале над стойкой и снаружи на террасе шел матч «Ливерпуль» – «Арсенал». Народу собралось много, свободных столиков не было, и стоял на площади немолчный гвалт. Я читал свои газеты.
Из широко распахнутой двери бара вышла с маленькой чашечкой кофе толстая старуха, с неожиданной для ее бегемотьего тела грацией проплыла в тесноте террасы, нависла круизным лайнером: «Не побеспокою?» – и уселась за мой столик. Долго помешивала ложечкой свой кофе. Свет фонаря падал на ее руки – ухоженные, с гладкой белой кожей, без всяких старческих веснушек и выступающих вен. Такие руки бывают у аристократок, не поднимавших в жизни ничего тяжелее веера.
Старуха пялилась на меня, разглядывала без всякого стеснения. Что этой старой корове надо-то? Я отложил «Новости столицы» и тоже уставился ей в лицо. Ей было хорошо за семьдесят, когда-то она наверняка была красива. Округлое полное лицо, большие голубые глаза, светлые тяжелые волосы, высокая большая грудь. Такой я увидел ее в прошлом, мысленно сняв с тела рыцарские латы жира и возраста. И тут что-то шевельнулось у меня в мозгу, очень знакомая получилась картинка.
Угадав искру узнавания в моих глазах, она медленно отодвинула от себя так и не тронутый кофе, встала и двинулась мимо церкви в сторону моря. Когда она скрылась из виду за поворотом, я поднялся и тоже не спеша, пару раз остановившись переброситься вечным «как дела?» с кем-то из вновь подошедших, пошел туда же, к набережной. Туда ведет только один путь.
Она стояла на горбатом пешеходном мостике, перекинутом через речку в точке, где та добиралась до своего великого финиша. Начался прилив, и океанская вода, шипя на камнях, заполняла речное русло. Я встал рядом, облокотившись о перила.