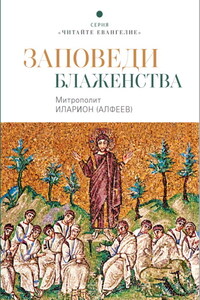Бабушка сидела в кресле-качалке и курила трубку. Причмокивая, короткими вдохами она поглощала дым, на несколько секунд задерживала его в лёгких, затем медленно выпускала с десяток огромных колец. Бабушка была закутана в толстый плед, из-под которого виднелись лишь костлявые руки, испещрённые венами, и седая голова. В моменты, когда Бабушка не курила, её сухое, как пустыня, лицо было неподвижно, а глаза открывались лишь для того, чтобы наблюдать, как умирают, растворяясь в воздухе, кольца, сотканные из дыма. Прислонённое спинкой к стене кресло-качалка уже давно не могло качаться. Оно, пожалуй, было такое же старое, как и бабушка, и такое же монументально неподвижное. Бабушка почти вросла в это кресло, а кресло почти вросло в стену – и вместе они терпеливо ожидали конца времён, когда смогут спокойно разложиться на плесень и прах.
Ольга зашла в комнату как раз в тот момент, когда Бабушка выпустила очень большое кольцо дыма. Оно медленно поднималось вверх, пока не достигло подвесной люстры, где и было распорото на части хрустальными подвесками.
– Доброе утро, Бабушка, – Ольга подскочила к старушке и клюнула её в щёку.
– Доброго утра, – Бабушка, словно самый искусный чревовещатель, говорила не шевеля губами.
– Холодно, – поёжилась Ольга и подошла к градуснику. – Девять градусов! Всё холоднее и холоднее. Когда же починят отопление. Ох, проклятая старая развалина, – Ольга занесла ногу, чтобы пнуть стену, но передумала.
– Не ругайся на дом, – назидательно пробурчала Бабушка, – он не виноват, что в нём живут нерадивые люди.
Ольга, проигнорировав слова Бабушки, продолжала смотреть на градусник, будто от её взгляда упрямая полоска ртути могла приподняться.
– Так жить нельзя, – сетовала Ольга.
– Нельзя, но вот, живут, – раздался в ответ, как всегда, спокойный голос Бабушки. – Беспечность и безответственность – бич нашего Дома.
– Мы же замёрзнем вконец!
– Замёрзнем, – подтвердила Бабушка и шумно выпустила дым из плена своих лёгких.
Ольга отмахнулась от надвигающегося на неё кольца дыма.
– Такое хорошее было, – проскрипела Бабушка.
– Ну что за привычка дымить на других.
– Ничего, ничего. Дым от микробов спасает.
– Байки! Ни от чего он не спасает!
– Мне-то лучше знать, видишь сколько прожила-то уже без ваших микробов, а мне ведь уже… А сколько мне? – старушка открыла глаза и задумчиво уставилась в стену, словно искала заветное число, которое должно было бы обозначать её возраст.
Дверь со скрипом открылась и в комнату, потирая глаза, вошёл Иван Мусоргский, которого обычно называли Старший Иван, а то и просто – Старший, потому что был ещё и Иван Младший – старший сын Старшего Ивана.
– Какая же холодрыга! Спать в шапке приходится.
– Холод не мешает тебе разгуливать по дому в одних трусах, – раздался из-за его спины голос Анны Фёдоровны. – Сколько можно? Не один живёшь! Куда ты прёшь, что тебе у Бабушки понадобилось.
– Ой, замолчи ты, карга! С самого утра мне нервы начинаешь морочить. Температуру хочу посмотреть. Я ж не виноват, что во всём доме один градусник. Оля, здравствуй, Олечка, ты Саныча не видела?
– Спит он, – вместо Ольги ответила Анна Фёдоровна, грозно дирижирую половником, – после вашей попойки. Даже не думай будить. Нечем у него опохмелиться. Всё попрятала.
– Ведьма, – пробурчал себе под нос Старший Иван, а громче добавил. – Анна Фёдоровна, да мне по делу.
– Я тебе дам по делу! Пусть проспится. Совсем совесть потеряли. Он до кровати даже не добраться не смог. Алкоголики. Это надо столько пить. Хорошо я вышла его искать, а то замёрз бы насмерть у порога. Лучше бы отоплением занялись, а не пьянками. Тоже мне – мужики. Только зенки свои поганые и можете заливать, а на работы не способны. Тунеядцы, нахлебники, негодяи…
– Разошлась, разошлась, у тебя там горит что-то, – пробубнил Старший и закрыл дверь за убежавшей Анной Фёдоровной. – А ты, бабка, всё тут сидишь, – рассмеялся своей шутке Иван, затем подошёл к градуснику, погладил Ольгу по голове и спросил. – Что тут у нас, Оленька? Ну не так уж и плохо. Переживём! И не такое бывало. Это разве холод?! Вот у нас как-то помню было…
– Не называйте меня Оленькой, Ольга я, – сказала Ольга и мгновенно вынырнула из-под руки Ивана и, поправляя волосы, вышла из комнаты, чтобы не слушать очередную историю Старшего. Ольга поморщилась: с кухни доносился запах щей. Впрочем, как и всегда: кухня была пропитана этим запахом, как и Анна Фёдоровна, которая постоянно готовила щи, точнее – это единственное, что она готовила.
Кухня была общей и имела потрёпанный вид: ремонт давно не делался, а уборка по графику всеми производилась обычно кое-как. Только раз в год, перед Пасхой, общими усилиями вся грязь вымывалась и на несколько дней кухня преобразовывалась настолько, что однажды в пьяном бреду Старший Иван не мог узнать её и решил, что попал в чужой дом – и это чуть не свело его с ума; Старший после этого случае даже не пил целых два месяца: настолько его напугало несостоявшееся безумие.
Ольга незаметно пробралась на кухню и, пока Анна Фёдоровна копошилась у плиты, стянула из буфета пару вишнёвых пирожков, которые вчера испекла матушка. Так же незаметно Ольга выскользнула из кухни. Она поднялась на третий этаж, прошла по длинному коридору, приблизилась к зелёной двери, постучала, открыла её, не дождавшись ответа, и вошла в комнату Матвея. Во всём доме эта комната была самой чистой и аккуратной: Матвей ежедневно выметал пыль и сор, относился ко всем вещам бережно, всё всегда лежало на своих местах с геометрической маниакальностью. Ольга внимательно огляделась: порой ей казалось, что комната каждый раз меняется в размерах, но ей ни разу не удалось установить это точно.