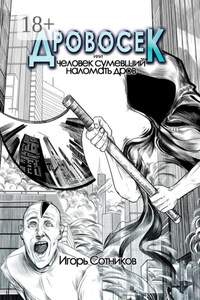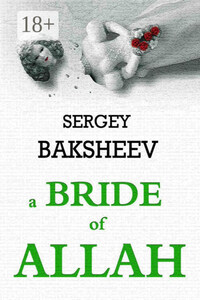Сознание возвращалось медленно, вместе с дикой болью, жадно пожирающей все тело. Делаю глоток воздуха, остро пахнущего пряной землей, и открываю слезящиеся глаза. Первая картинка, которую фокусирует зрение – это пожухлые, нелепо торчащие во все стороны облезлые серые кустарники сорняка, и такое же хмурое небо, проглядывающееся через тощую корягу, в которой застряло мое тело. Его ветка больно впилась в изодранный бок, и казалось, перекрыла доступ кислорода к легким. Во рту металлический привкус и настоящая пустыня, отдающая пульсирующей болью в саднящем горле.
Мое тело бьет крупная дрожь, и я осознаю, что дико замерзла. Судя по лесной местности, сохранившей остатки багряного убранства, на улице поздняя осень, и собачий холод. Он проник в каждую клеточку моего измученного тела и сковал его, как первые заморозки лужи городских улиц. Приподняться на обессиленных трясущихся руках и оглядеться удалось только с четвертой попытки, а на то, чтобы вытащить свое тело на самый верх отвесного берега ушла целая вечность. Я плакала и стонала, но ползла наверх, сдирая до крови кожу на руках, и коленях и только выбравшись на верх, я озадачилась своими нарядом.
Какого чёрта на мне эта тряпка? В смысле, нет сомнений, что до купания в реке оно было платьем, но как меня угораздило оказаться в самом центре тайги, на берегу отвесного устья реки в тонком платье мать его?
В груди плясала острая боль, я пыталась делать поверхностные глотки воздуха, но и они давались мне с трудом, в голове стучало так сильно, что заглушало собственные мысли. Я напряглась, вспоминая, как оказалась здесь, но в сознании царил полнейший вакуум, состоящий из боли и пронизывающего холода.
Пошевелив ногами, я поняла, что с трудом их ощущаю, а это означает, что вскоре я просто запросто здесь замерзну насмерть. Дикий ужас и отчаянное желание жить обуяли меня, так, как бывает перед смертью, некстати подумалось мне, и испугавшись ещё сильнее, я собрала последние силы и закричала.
Громко и отчаянно, словно прощаясь со своей жизнью. Я кричала до тех пор, пока из моего горла не послышались сиплые крики, лишь тогда я замерла, глядя в серое небо.
Меня лихорадило, и клонило в сон, но я упрямо смотрела ввысь, отсчитывая свои последние, стремительно тающие минуты жизни.
О чем я думала в этот момент, спросите вы? Я могла бы сожалеть о плохих совершенных поступках, о том, что не успела сделать или сказать, но в моей памяти зияла огромная дыра, размером с Марианскую впадину, и я вдруг осознала, что не помню ровным счетом ничего из своей жизни.
Ничего. Даже имени.
Чистый белый лист, словно меня никогда не было, до этого момента. Это открытие повергло меня в состояние шока. Я вновь и вновь мысленно штурмовала задворки свой памяти, но она была нема и глуха к моим потугам, отзываясь пронзительной головной болью.
Прикрыв в исступлении глаза, я зашептала молитву, которую, как ни странно, отлично помнила. Мысленно я понимала, что спасения ждать неоткуда, но человек та еще скотина, и даже на пороге смерти усердно цепляется за жизнь, вымаливая у Бога еще глоток.
Может, мне просто есть для кого жить?
Или просто мой эгоизм и жажда жизни настолько сильны, что не могут смириться с грядущим поражением?
Как бы то ни было, но где–то совсем рядом послышался странный шум, и надо мной склонился пожилой мужчина с пышной белоснежной бородой.
–Вот те на! – Пораженно воскликнул он, всплеснув по бабьи руками, – это что же такое делается? Слышу кричит кто–то, али показалось, али нет, только Марта, кобылка моя, сама припустилась вперёд. Гляжу ноги голые, торчат из кустов! Это в стужу– то морозную! Повезло тебе девонька, мороз крепчает, к ночи метель будет. Ох, и фартовая ты! – Продолжал сетовать старик, что – то перекладывая в своей телеге.
– Подняться сама сможешь? – Я отрицательно покачала головой, неотрывно глядя на него. – Ну чай не робкого десятка, сдюжим.
И оказался прав, довольно ловко переместил меня в бричку, устроив на мягких шкурах, закутав в них с головой. Устроился рядом, и телега покатила вперёд.
Тело продолжала колотить мелкая противная дрожь, и вскоре сознание померкло, укутывая меня в спасательный плотный кокон, где нет ни холода, ни боли.
Прошел месяц, а я так и балансировала на краю пропасти отчаянно сражаясь за жизнь. Тяжелое двухстороннее воспаление легких едва не отправило меня на тот свет. Дед Петя, продолжал настойчиво отпаивать меня всякой горькой дрянью, гордо называя свое варево настойкой. И я послушно глотала, морщась от ее ядовитого привкуса, цепляясь за жизнь, не в силах даже подняться с постели.
Петр Фёдорович, мой спаситель, благоразумно избегал расспросов, но усердно крутился вокруг волнующей его темы, мол снегом замело не проехать не пройти, авось ищет кто?
Ответить ему было нечего, как и удовлетворить любопытство, терзающее старика. В голове по – прежнему было пусто, как в церковном колоколе, а попытки что – либо вспомнить причиняли сильнейшую головную боль.
Где – то через недели две моего тяжкого недуга, меня вдруг осенило, что я совершенно не знаю, как выгляжу. И до смерти перепугав старика, заистерила в лучших традициях каждой женщины, попросив, наконец, зеркало, которого в старой избе не оказалось. Затем потребовала старика описать себя, и услышала неутешительный вердикт: тощая, синяя и страшная. Добавив напоследок мечтательно, что эталоном женской красоты для Петра Фёдоровича являлась неведомая Марфа, из соседнего поселка, пышная, статная баба, с крепкой рукой, и неукротимым нравом.