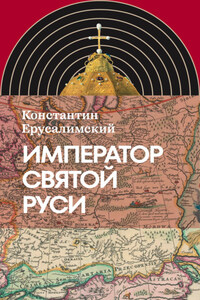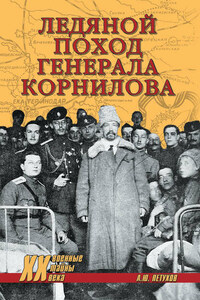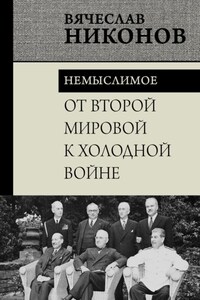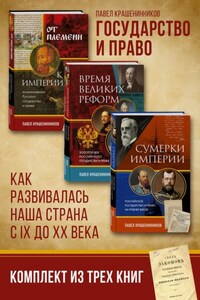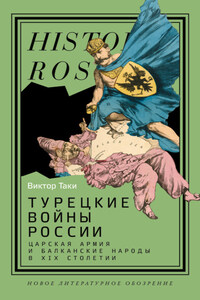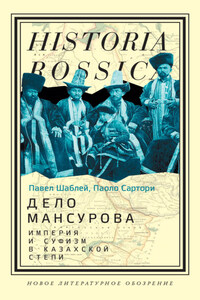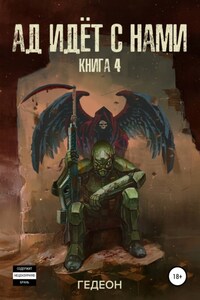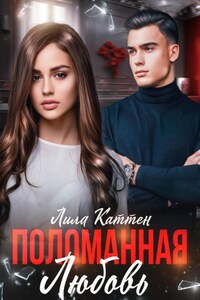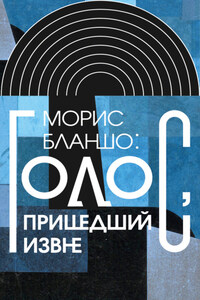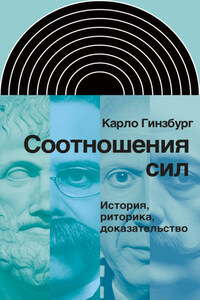УДК [94(47+57)«14/17»]:316.75
ББК 63.3(2)4-72
Е79
Редакторы серии «Интеллектуальная история»
Т. М. Атнашев и М. Б. Велижев
Константин Ерусалимский
Император Святой Руси / Константин Ерусалимский. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Интеллектуальная история»).
Каким был идейный кругозор, идеология, коллективные представления Московского царства XV – начала XVIII века? Насколько широк был круг сторонников «высоколобых» учений и насколько осмысленны были понятия политической культуры? Можно ли говорить о Российском государстве этого периода как об империи, монархии, республике? Кем считали себя подвластные этой страны, какие коллективные идентичности считали для себя значимыми? Почему в дополнение к летописанию, а отчасти на смену ему пришел такой жанр самосознания, как история, и как отличалось прошлое историков от прошлого летописцев и хронистов? В фокус исследования вошли такие идеологемы, как народ и Святая Русь, царь и император, постапокалиптическая история и Третий Рим, и такие формы коллективного политического действия, как дело народное, общая вещь, гражданство. Несмотря на немодерные технологии коммуникации, интенсивное сакральное чтение и неустойчивость доктрин суверенитета, российская культура была в этот период легитимной частью ренессансного мира, чему свидетельством служат как полемические сочинения, словарные и исторические высказывания интеллектуалов, памятники церемониальной, исторической, политической и бытовой мысли, так и следы рецепции событий в мире, анонимные дискурсы, визуальные репрезентации настоящего и прошлого. Московское царство втягивалось и в одну из наиболее значимых дискуссий модерной эпохи – о разоружении как необходимом условии гражданской жизни. Константин Ерусалимский – доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.
На обложке: Солнцев Ф. Г., Дрегер Ф. Шапка Мономахова, или Венец великих князей и царей русских. Изображение 1. Древности Российского государства. [Иллюстрации]. [Москва]: хромолит. Ф. Дрегера, [1851]. РНБ, Санкт-Петербург. Николас Висхер I. Генеральная карта Московии или Великой Руссии. Амстердам, 1677–1679 гг. Рейксмузеум, Амстердам.
ISBN 978-5-4448-2822-9
© К. Ерусалимский, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Введение
Как Авраамий Палицын трижды спас Россию
24 августа по юлианскому календарю (3 сентября по григорианскому) 1612 г. Авраамий Палицын совершил подвиг, который вошел в канон деяний, спасших Россию от Смуты. Келарь Троице-Сергиева монастыря, ранее прославившийся в обороне Сергиевой обители от войска Яна-Петра Сапеги и поддержавший кандидатуру королевича Владислава Жигимонтовича на российский престол, ко времени, когда отряды Яна-Кароля Ходкевича достигли предместий Москвы, перешел на сторону повстанцев, выступивших против кремлевского гарнизона и боярского руководства страны. Подготовка к сражению с войском Ходкевича шла ни шатко ни валко. И вот когда казаки Первого ополчения под командованием князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого отказались идти на помощь отступавшим воинам Второго ополчения, то князь Дмитрий Михайлович Пожарский и посадский человек Кузьма Минин послали за Авраамием, «зовуще его в полки к себе»1.
Старец молился перед иконой Сергия и Никона Радонежских, но все же последовал призыву. Пожарский, Минин и множество дворян упросили со слезами келаря отправиться в острог к бездействующим казакам. В окружении отряда дворян Авраамий поспешил к храму Климента Папы Римского. Хорошо понимавший психологию воинов и не раз уже побывавший в гуще сражений, Авраамий обратился к казакам с похвалой за их прежние подвиги. И от нее, по всем правилам ораторского искусства, перешел к тревожному вопросу:
Ныне ли, братие… вся та добраа начатиа единем временем погубити хощете?2
Казаки умилились, обещали «вси умрети», а разгромить врагов, – и призвали келаря идти в жилища тех, кто просиживал, отказываясь выступать. Авраамий пошел на поиски подкреплений и нагнал отряд («множество казаков») у Москвы-реки рядом с Никитской церковью на переправе. Они возвращались в свои станы. Авраамий умолил воинов отправиться на бой. Еще неоднократно монах в тот день обращался к казакам, находя их кого у реки, кого у торгов («лав»), и всех, по его словам, удалось уговорить пострадать за Имя Божие, за православную истинную христианскую веру и за Сергия Радонежского. Когда пришли вести о победе, а Ходкевич с оставшимися ротами отступил на Воробьеву гору, келарь поспешил с вестью к Пожарскому:
И тако благодаряще Бога и великое заступление Пречистыя Его Богоматере и молитвы великих святителей московских Петра и Алексея, и Ионы, и великого чюдотворца Сергиа, и прочих святых, и поидошя ко образу Святыя Живоначалныя Троица и Пресвятыа и Пречистыя Богородица, и великих чюдотворцов Сергиа и Никона, идеже прежде молебнаа совершаху, и с ними множество дворян и детей боярских и всех чинов множество народа; и певше молебнаа, благодаряще Бога и разыдошяся радующеся3.
Это был не последний подвиг Авраамия. И в его согласии, отступив от своего иночества, ринуться на спасение православия, и в обращении к воинам на поле боя и в казацких станах, и в том, как он описывает богомольную процессию на весть о победе над ратью Ходкевича, трудно предвидеть его следующие поступки – и то, что Авраамий наряду с Мининым будет командовать штурмом Кремля через два месяца после этих событий, и то, что после объявления царем Михаила Романова вновь обратится к воинам, среди которых многие слушали его речи на подступах к Москве, и потребует от них сложить оружие…