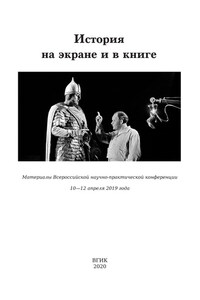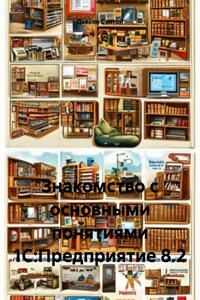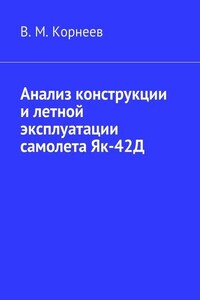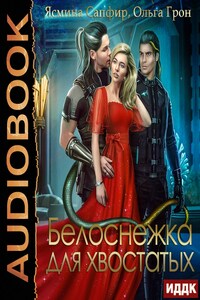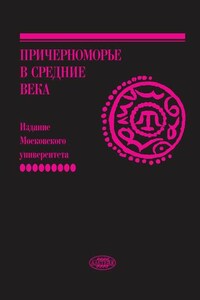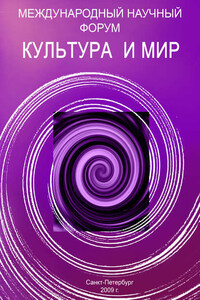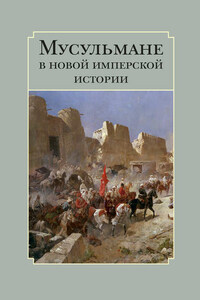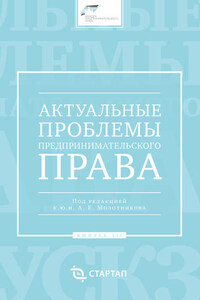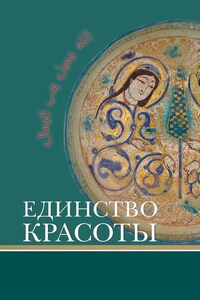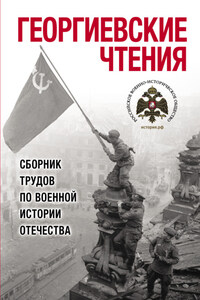Апостолов А.И.
«Идиотизм» послевоенного отечественного кинематографа. Экранная судьба князя Мышкина: от Пырьева до Бортко
![]()
Apostolov A.I.
Москва, помощник ректора ВГИКа по творческой деятельности и связям с общественностью
parazaurolof@list.ru
В центре внимания статьи причудливые метаморфозы облика князя Мышкина на отечественном экране со времен «оттепели» и до начала XXI века. Герой Достоевского рассматривается не столько как художественный образ, сколько как социально-политический мем, трансформация которого становится наглядным свидетельством траектории эволюционных процессов современной истории России. В отдельную главу вынесена история несостоявшейся экранизации «Идиота», замысел которой на протяжении десятка лет вынашивал Андрей Тарковский.
Ключевые слова: Мышкин, Достоевский, эталонная экранизация, Пырьев, Тарковский
«Idiocy» of the post-war domestic cinema. Screen fate of Prince Myshkin: from Pyryev to Bortko
The article focuses on odd metamorphoses of the image of Prince Myshkin in the Russian films from the thaw period to the early 21st century. The author considers Dostoyevsky's character not as an image, but rather as a social and political meme, whose transformation is an example of the trajectory of evolutionary processes in the modern history of Russia. In a separate chapter, the author considers the history of a might-have-been cinematizing of “Idiot”, which had been matured by Tarkovsky for a decade.
Key words: Myshkin, Dostoyevsky, model cinematization, Pyriev, Tarkovsky
1. Странная встреча: Иван Пырьев
Экранизацию романа «Идиот» Акиры Куросавы (1951) Жиль Делез, совсем в духе Бахтина, назвал «великой встречей» двух культур, эпох и авторских инстанций. В самой идее «встречи» заложено представление если не о симметричности, то во всяком случае о соизмеримости имен Куросавы и Достоевского. Последовавшая через 7 лет после японского фильма советская экранизация «Идиота» с точки зрения этой умозрительной именной релевантности вызывает недоуменное ощущение явного несовпадения. С рассуждения на эту тему начинал свою рецензию на интересующий нас фильм известный киновед Юрий Ханютин: «Пырьев ставит Достоевского. Само упоминание рядом этих имен казалось многим неожиданным: как это художник, чьим первым главным даром принято было считать народный юмор, неиссякаемую, щедрую жизнерадостность, вдруг обратился к трагическому гению Достоевского?» [26] Однако Пырьев вынашивал идею этой экранизации долгое время, а сценарий написал и вовсе за десять лет до съемок, перед работой над «Кубанскими казаками» (1949).
По версии Пырьева, главной помехой для постановки «Идиота» в течение десяти лет являлось отсутствие достойного кандидата на заглавную роль князя Мышкина. Тем не менее сложно себе представить появление киноверсии «Идиота» в конце 40-х, даже если вообразить, что Юрий Яковлев встретился бы Пырьеву в момент работы над сценарием. Вряд ли тогдашний культурный климат благоприятствовал этой задумке. Достоевский вообще долгое время оставался, говоря театральным языком, не репертуарным для советского кино автором. После двух заметных кинообращений к прозе и биографии Достоевского в первой половине 30-х, «Мертвого дома» (В. Федоров, 1932) и «Петербургской ночи» (Г. Рошаль и В. Строева, 1934), творчество Достоевского более чем на два десятилетия оказалось негласно табуированным для экрана. Волна идеологических репрессий затронула по касательной неугодного в силу реакционного «мрачнизма» (словечко из лексикона Пырьева) русского классика. Конечно, нельзя исключать, что Пырьев всерьез намеревался поставить «Идиота» где-то в промежутке между «Сказанием о земле Сибирской» (1947) и помянутыми «Кубанскими казаками». В таком случае легче всего предположить, что режиссер планировал адаптировать роман под становившийся в ту пору востребованным (квази)жанр фильма-спектакля. Излишняя театральность поставленного в итоге фильма словно напоминает о десятилетней выдержке замысла.
Как бы то ни было, никаких прямых следов романа «Идиот» в кинематографе сталинской эпохи, кроме этой подпольной работы Пырьева, обнаружить не удастся. За исключением чисто событийных совпадений, вроде разбитой вазы в кульминационной сцене фильма «Соловей-соловушко» (Н. Экк, 1936) или яркого эпизода сжигания денег в «Сельской учительнице» (М. Донской, 1949); таких же как будто случайных совпадений с именами персонажей романа: полное имя героини «Настеньки Устиновой» (К. Эггерт, 1934) – Настасья Филипповна[1], а мальчика-заучку из фильма «Команда с нашей улицы» (А. Маслюков, 1953) зовут «гибридным» именем Лев Николаевич Иволгин. Вспомним еще ироничное по отношению к роману признание героини Фаины Раневской в фильме «Весна» (Г. Александров, 1948): «Я возьму с собой "Идиота", чтобы не скучать в троллейбусе»[2].
В конце 50-х творчество Достоевского подвергается постепенной и не лишенной оговорок «реабилитации» в официальном литературоведении, о чем может свидетельствовать хотя бы появление в 1957-м году монографии «За и против. Заметки о Достоевском» В. Шкловского, обладавшего особой чувствительностью к идеологическим колебаниям, и издание 10-томного академического собрания сочинений «опального» писателя. В 60-е переиздают знаменитую работу Михаила Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», «Преступление и наказание» и «Идиота» вводят в школьную программу.