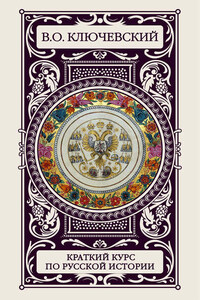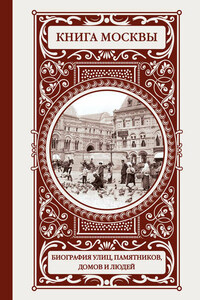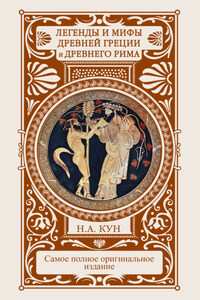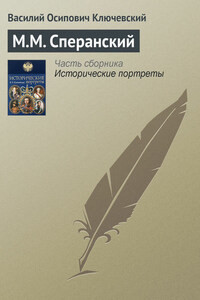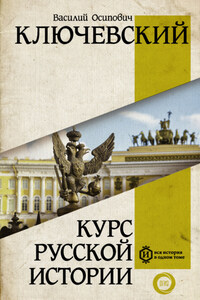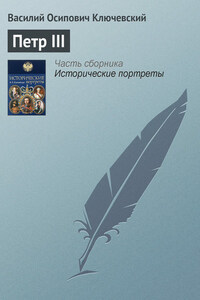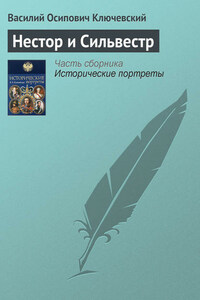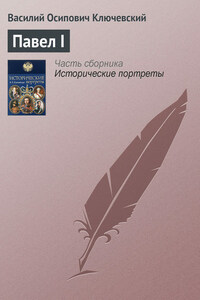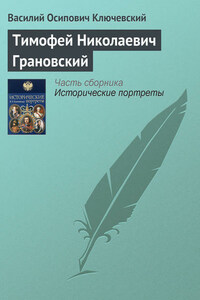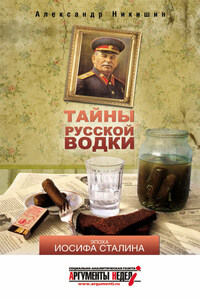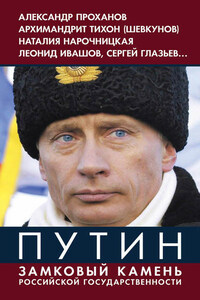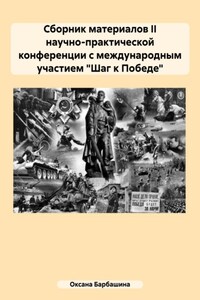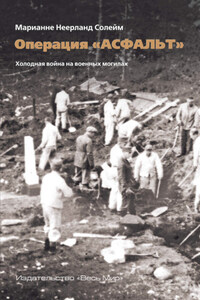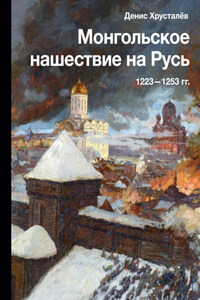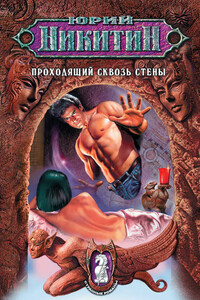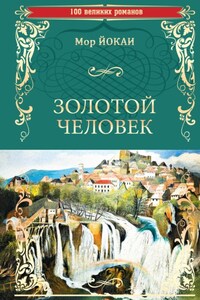В. О. Ключевский
Как художник слова
«Почти три десятка лет этот великан, без малого трех аршин ростом, метался по стране, ломал и строил, все запасал, всех ободрял, понукал, бранился, дрался, вешал, скакал из одного конца государства в другой. Такою безустанною деятельностью сформировались и укрепились понятия, чувства, вкусы и привычки Петра. Тяжеловесный, но вечно подвижный, холодный, но вспыльчивый, ежеминутно готовый к шумному взрыву, Петр был – точь-в-точь, как чугунная пушка его петрозаводской отливки…»
«Государыня Елизавета Петровна была женщина умная и добрая, но женщина. От вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене. Строго соблюдала посты при своем дворе, и во всей империи никто лучше императрицы не мог исполнить менуэта и русской пляски. Невеста всевозможных женихов на свете от французского короля до собственного племянника, она отдала свое сердце придворному певчему из черниговских казаков. Мирная и беззаботная, она воевала чуть не половину своего царствования и победила первого стратега того времени Фридриха Великого. Основала первый настоящий университет в России – Московский и до конца жизни была убеждена, что в Англию можно проехать сухим путем. Дала клятву никого не казнить смертью и населила Сибирь ссыльными, изувеченными пыткою и с урезанными языками. Издавала законы против роскоши и оставила после себя в гардеробе с лишком 15.000 платьев и два сундука шелковых чулок…»
«На русском престоле всякие люди бывали, всяких людей он видал. Сидели на нем и многоженцы, и жены без мужей, и мужья без жен, и выкресты из татар, и беглые монахи, и юродивые, – не бывало еще только скомороха. Но 25 декабря 1761 года и этот пробел был заполнен. На русском престоле явился скоморох. То был гольштинский герцог Карл Петр Ульрих, известный в нашей истории под именем Петра III…»
Ровно сорок лет отделяют меня от тех часов в Большой Словесной аудитории Московского Университета, когда впервые прозвучали эти характеристики из уст незабвенного Василия Осиповича. Густой и толстый слой пестрейших впечатлений налег за эти сорок лет на память, и потускнела под ним далекая отгоревшая юность. А между тем, даже не закрывая глаз, я как будто вновь слышу спокойно-иронический, слегка козловатый, звонкий и сиплый вместе, «духовенный» тенор, которым они произносились; как будто вижу спокойно-ироническое лицо с умным, пристальным, но не навязчивым взглядом проницательных глаз, склоненное с кафедры к замершей во внимании аудитории. Она, как всегда у Ключевского, конечно, битком полна слушателями, нахлынувшими и с своих, т. е. филологического и юридического, и с чужих факультетов.
Мы, студенты первых курсов, увлекались Ключевским, обожали Ключевского. Однако сомневаюсь, чтобы многим из нас было тогда ясно все огромное значение нашего любимого профессора в исторической науке. Мы гордились тем, что слушаем общепризнанный научный авторитет, но принимали этот авторитет больше на веру, как аксиому, не требующую доказательств, и не он влек нас, толпами, внимать драгоценные verba magistri. Осмелюсь даже предположить, что из тогдашних слушателей и обожателей Ключевского большинство не удосужилось проштудировать ни его «Древнерусские жития святых, как исторический источник», ни «Боярскую Думу Древней Руси», ни вообще трудов, характерных для него, как для тонкого исторического исследователя, одаренного в равной степени и проникновенным вдохновением интуиции, и острою силою поверочного анализа. Мы были слишком молоды и при всем таланте Ключевского как популяризатора слишком мало подготовлены среднею школою к тому, чтобы понять и оценить его с чисто научной стороны творчества. Это пришло позже и да же знач ите льно позже. Зато едва ли не с первых же с лов первой же лекции с кафедры Ключевского повеяло на нас живительным духом мощной художественности. Она говорила с нашими молодыми душами языком внятной и увлекательной убедительности, покоряла ум и воображение и манила нас к познанию связи событий прошлых и настоящих, как в изящной словесности «Капитанская дочка» Пушкина и «Война и мир» Льва Толстого, как в живописи исторические полотна И. Е. Репина, в музыке – композиции Мусоргского и Бородина.
Несмотря на то что первый обширный опыт русской истории, карамзинская «История государства Российского» написана большим, по своему времени, художником слова, художественность в русской историографии – редкая птица. И, до последнего времени, я сказал бы даже – птица гонимая. Карамзин художник, но он не говорил, а вещал, не писал, а начертывал на скрижалях, и создал риторскую традицию. Его преемники, ученики германцев, смешивали карамзинскую величавость и торжественность с тяжеловесным педантизмом немецких гелертеров. Писать историю важно, сухо и скучно было обычаем, равносильным закону. Под гнетущее ярмо его покорно склоняли голову даже великаны художественной речи, не исключая самого Пушкина. Ключевский, которому принадлежит блестящая оценка Пушкина как историка, совершенно справедливо указывал на тот факт, что Пушкин по преимуществу был историком там, где не думал быть им, и не был им там, где думал быть. Ключевский убежденно утверждал, что в «Капитанской дочке», написанной между делом среди работ над пугачевщиной, гораздо больше истории, чем в «Истории Пугачевского бунта», которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. Но этот сухой тон «объяснительного примечания» был тогда обязателен для автора, желавшего, чтобы его труд был принят ученым миром и критикою не как дар широкой публике для легкого чтения, но всерьез. Живость речи,