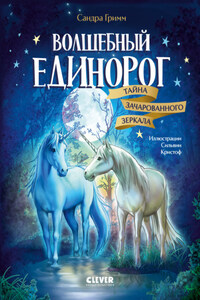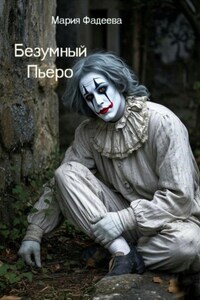– Маня-а-а-аша! А-ну, подь сюды, красавица! Опять этот бес винторогий мне все грядки вытоптал! – уперев натруженные руки в полные бока и обратив раскрасневшееся от быстрой ходьбы лицо к открытому настежь балкону, кричала Марфа Ивановна, повариха и по совместительству нянька принцессы.
– Ну что ты так кричишь, Марфушенька? – зевая и потягиваясь, на балкон как есть – растрепанная, босиком и в ночной сорочке – вышла стройная, как тростинка, семнадцатилетняя девушка и строго посмотрела на разгневанную женщину, утиравшую со лба пот видавшим виды цветастым фартуком.
– Я те счас покричу! Счас так покричу – стекла в окнах потрескаются! Ты Фельдфебеля своего давеча гулять отпускала?
– Нянюшка, да Ефрейтор он! Еф-рей-тор! И не пускала я его никуда! Он в сарае стоит привязанный! – тряхнула золотистыми кудрями принцесса и для убедительности топнула ножкой.
– Неужто? – недоверчиво прищурилась Марфа Ивановна, – А кто капусту в огороде помял? И курей вот – двух штук не досчиталась!
– Чтоооо? И курей тоже – Ефрейтор? Да ты в своем ли уме, старая?
Надо сказать, что шибко крепко Маняша того бычка любила. Родился он пёстрым – черно-белым, как мама – махоньким, слабеньким. Однако рос задиристым, бодучим и непослушным: только принцессе и давал себя кормить-поить да в поле на выпас выводить.
– Ох и напросисся ты у меня, Машка! – погрозила кулаком девушке повариха, – Вот спустишься ужо, я тебе крапивы за ворот-то понапихаю!
Звуки протяжно заскрипевшей открывающейся двери заставили утихнуть разгоревшийся спор. На резном крыльце добротных, трехэтажных деревянных царских хором появился сам царь. Не растерявший былой стати, теперь он каменной глыбой возвышался над поварихой, терпеливо застегивая мощными ручищами крохотные пуговицы-бусинки на своей белоснежной, с золотой вышивкой по полам рубахе.
– Довольно верещать аки поросята на заклании, – погладив густую седую бороду, примирительным сочным басом сказал он, – Утро-то какое хорошее, бабоньки!
– Да где ж оно хорошее, Захарыч?! – сдернула с толстой русой косы зеленый платок Марфа Ивановна, – Я говорю, капуста вытоптана, курей не хватает, а вчерась…
– Довольно, сказано тебе. Разберемся.
Спустившись по трём новеньким, ещё пахнущим свежим деревом ступенькам крыльца, Алексей Захарович с удовольствием оглядел окрестности:
бабы на реке стирку затеяли, и теперь над её блестящей как зеркало гладью раздавались громкий смех да песни-помощницы;
пастух, грозно щелкая хлыстом скорее для острастки нежели желая кого-то обидеть, гнал стадо коров и телят на дальнее пастбище. Самый маленький, недавно появившийся телёнок, смешно путаясь в своих длинных непослушных ногах, старался поспеть за матерью, спотыкался, но мычал задиристо и звонко;
тут разбрасывали для просушки последние в этом году копны сена, там чинили лошадиную упряжь, мальчишки на пруду ловили карасей, а из кузницы спозаранку уж валил дым и пар, из которого то и дело были слышны шипение и лязг металла. Красота…
А все ж и в самом деле творилось в царстве неладное. Стали подданные что ни день на новые пакости государю жаловаться – то скот пропадает, то яблоки в садах словно ветром сдуло, два дня тому телегу у деда Кондрата кто-то в щепки изломал, а девушки сказывали, будто "большое, черное такое кошачьим глазом за нами в окно подглядывало, когда мы на суженого гадать собирались".
"Ясно, что озорует кто-то, – размышлял про себя Алексей Захарович, – Вот только кто этот паршивец? И зачем ему это?". И долго бы думал царь-батюшка, ежели бы на его дом вновь беда не обрушилась.