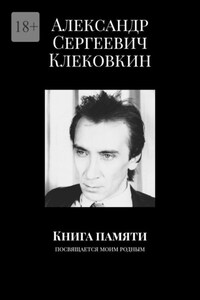Добрый день, мэтр
О поэзии Николая Кононова
Поэзия и женщина предстают нагими лишь перед своим возлюбленным.
В чём прелесть красоты? – шёл по мосту, думал. (Вообще думается лучше всего на ходу. Ритм шага совпадает с ритмом мысли и она продолжается по необходимости.) Прелесть – это нечто конфессиональное, нечто греховное. Красота – не идеальный ли объект, т. е. не мнимый ли?
Самое прекрасное (ужасное – по вкусу), что красота – вещь недоступная, ускользающая. Чтобы её чувствовать, необходим «богатый внутренний мир», глаз следака. Опера Рамо в постановке театра Гарнье – что может быть изысканнее? Что может быть непристойнее?
Непристойность заключена в том, что это абсолютно элитарная, даже не то слово – эксклюзивная отдаёт гламурным миром – деликатная (от слова деликатес) вещь, что её может оценить, следовательно – овладеть ей – только гурман, не знаток даже, мозги не помогут, но утончённый до прозрачности эстет, имеющий фибры вместо органов восприятия.
И в том, что это слишком дорого. Такое придворное искусство, когда о затратах думать не надо, когда роскошь – необходимое условие существования. В этом факте такая неизбежность поедания слабого – в самом настоящем биологическом дарвинистском смысле – что волосы на голове шевелятся и становится не по себе.
Другой пример. Флористика. Высокая европейская флористика, от Стаса Зубова. Это полный аналог только что описанной ситуации. Настоящих мастеров человек пятнадцать во всей Европе (часть европейских стран, включая Францию, такой культуры не имеют). Сделать нечто из цветов – баснословно дорогое и ненужное. Это не индустрия (как кино), не массовое и не развлекательное занятие. И продукт, т. е. эстетический предмет – фикция. Т. е. он реален, его даже можно потрогать. Но живёт не дольше суток (допустим). И отходит в небытие. Композицию можно сфотографировать, но это уже просто документация, некое историческое каталогизирование над уходящей в песок истории подлинностью. Здесь есть свои массовые (популярные) жанры: свадебный букет. За счёт эксплуатации эстетического чувства толстосума существует нереально трепетное иллюзорное (т. е. идеальное, настоящее в платовском смысле) чистое (как для символистов музыка) искусство – флористика.
«И упало каменное слово» – это очень точно, потому что слово – каменное. Поэт в выигрышном положении. Его материал прочнее всего остального. Цивилизации уходят на песчаное дно истории, а из песка всплывают только слова – всё, что остаётся от человека и предназначено человеку.
Возможности репродуцирования (в беньяминовском смысли) теперь другие и будушее (как всегда) туманно. Но слово остаётся самым удобным (практичным) и легковесным (на первый взгляд) инструментом или материалом.
На первый взгляд.
А на второй – нет ничего беззащитнее этого всеми употребляемого уголька, грифеля, крошашегося, теряющего отчётливость, плотность, превращающегося в пыль, ничто в руках (губах) графомана. И единицы (человек пятнадцать) знают, что с ним делать, чтобы из живой природы (растущей за окном) составить, скрепить нечто прекрасное и неизменно живущее, без увядания – до конца исторического времени, в культуре (очень хрупкому в космических масштабах образованию) как в колбочке с поддерживающим жизнь раствором (хризал или водка), спрятанном под всеми этими пестиками и тычинками.
И это поэзия Кононова.
Я как бы замер в нерешительности. Что дальше? «Его лицо покрылось мелкой дрожью, / Как будто рядом с ним был вивисектор».
НАДРЕЗ ПЕРВЫЙ
Та-та-та́-та, та́-та, та-та-та́-та… По-русски это уныло. Что-нибудь элегическое, связанное с темой дороги, смерти. Разработка (Кононов морщится) существующих метрических схем, имеющих определённый «ореол» (М. Л. Гаспаров) – обычное дело. Так продолжается культура. Стих – очевидная форма преемственности, церемониальной дотошности формы.
Кононов – марсианин. Он как бы не при чём. Его не интересует русская литература, вообще ЛИТЕРАТУРА. Им двежет какой-то иной посыл. Поэтому его очень просто не замечать, пропускать. Он как бы вне, мэйнстрим огибает этот материк.
Кононов не любит скандовку. Мелодичность его не прельщает. Это прельщение (в противоположность прелести) оказывается вульгарной песенкой пьяного шалопая, случайно оказавшегося под окном. Это не интересно.
Мелодия, гладкий размер с такой-то рифмовкой (или окончаниями: муж., жен., дакт.) – такие ходики, без остановки везущие вникуда. Так писали в девятнадцатом веке. Некий общий, никому не принадлежащий стиль. Пятистопные ямбы, глагольное письмо, общий лексический набор, жанровое мышление. Воткнул в розетку – и вперёд, строчи. Большие писатели преодолевали романтизм и реализм, но оставались доступны этой энтропии, такой всеобъемлющей манной каши, которую можно назвать языком, а можно – безъязычьем © В. М. Жирмунский.
Кононов любит такое футуристическое кричание, риторическое произнесение синтагм без упора на ударные, без развывания речи в голос. И это оказывается пронзительнее всего. Когда тихо-тихо или даже с посылом, но по-человечески необязательно (напоминает манеру чтения Маяковского), без установки на идеальное воспроизведение некой идеальной фонетики, без надрыва и ложноклассического пафоса. Просто как разговор о любви, с перебоями, вкрадчиво, озорно, лучезарно.