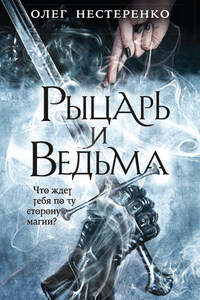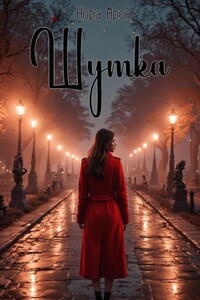Вагон мерно покачивался, ровно стучали колеса, за окнами проносились городки, деревушки и поля, обгоревшие, покореженные, уже мертвые или в огненной агонии. Эшелон спешно эвакуировался из Ростова – вглубь страны, на восток. Бомбили все реже, но страшные звуки канонады разлетались далеко, нагоняли состав, заставляли людей прекращать разговоры и замирать, вслушиваться.
Хотя дверь была открыта, пахло потом, немытыми телами и папиросным дымом. Украдкой оглядывая пассажиров, Тонечка с грустью недосчиталась двоих – не успели или уже не смогли, остались там – на месте последней остановки. Как ее Николенька когда-то, двадцать лет назад, ушел и не вернулся. А поезд неумолимо двигался вперед.
Тонечка нащупала иконку за пазухой, достала, погладила, поцеловала. Пусть святой Николай не серчает на нее – лик на иконе его, а представляет Тоня младшего брата, они были двойняшки. Тонкая кость, белая прозрачная кожа с сеточкой вен, музыкальные пальцы и одухотворенное выражение лица, будто не родились они в рабоче-крестьянской семье, будто не знали тяжелого изматывающего труда с раннего детства, будто не было в их жизни страшных потерь.
Тогда, в 1921, они вместе пробирались к старшей сестре в Ростов. Добралась одна Антонина. Голод и болезнь подкосили горячо-любимых родителей, оставили их сиротами. А потом и Николай сгинул, – вышел во время остановки поезда, а тут дали сигнал к отправлению. Тоня звала, все звали, ринулась брата искать – да ее не пустили, уж как она билась, кричала – удержали. Осталась в сердце пустота, а на душе – глубокая печаль и печать вины, что не уберегла, не защитила.
В вагоне сидели прямо на полу, на соломе, кому повезло – на тонких ватных матрасах, а спали вповалку, где кто приткнется. Взрослым было тяжело, горе и война сдавили их в крепкие тиски – не разнять. Тонечке было проще, у нее была опора. Повернувшись, она вгляделась в белое круглое лицо сестры: Маня тихо дремала, прикрывшись кофтой, голова покачивалась в такт движению поезда. Она хмурилась, даже во сне выражение лица оставалось серьезным и сосредоточенным.
Пятилетняя Аллочка втиснулась между мамой и тетей, голову положила маме на колени. Тоня видела, как пухленькие детские пальчики племянницы весело шагали по Манечкиной ноге – вверх – вниз, гуляли и играли. Война – войной, а дети остаются детьми.
Тоня подтянула острые колени, одернула юбку в мелкий горошек, закуталась плотнее в старый пуховый платок, она всегда мерзла, Манечка шутила, мол кости не греют, и стала следить за уходящим солнцем, сентябрьским, еще теплым и сочным. Оно садилось тягуче медленно, ползком пробиралось за горизонт, плавилось и растекалось, как масло на сковородке. В желудке заурчало, свело голодным спазмом, Тоня сглотнула, прикрыла глаза.