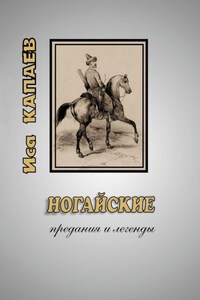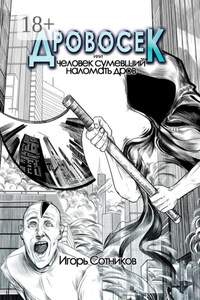Череп хранился в мастерской моего друга – художника, который ничего не знал о его происхождении: достался он ему от студента графического факультета, приходящего поработать в его мастерской. Каким образом он попал к студенту – неизвестно, об этом они никогда не говорили: поработав две-три недели в этой мастерской, студент защитил диплом и уехал по распределению куда-то в Западную Сибирь. Череп остался у моего друга.
Каждый раз, приходя сюда, я пристально вглядывался в него. Он стоял на полке между книгами и репродукциями великих мастеров. Странное это было сочетание: Гоген, Рембрандт, Ван Гог, Павел Васильев, Петров-Водкин и среди них – этот безымянный череп. В этом странном сочетании я всё время старался усмотреть какой-то смысл, но не находил его. Мне всё казалось, что появление черепа в мастерской не случайно.
Стены мастерской были увешаны картинами моего друга, и я понимал, что он подражает тем самым мастерам, чьи репродукции стояли у него на полках, а самое главное, что это не было подражанием какому-то одному мастеру. В его картинах можно было найти характерные черты каждого: с миру по нитке. Поэтому-то картины и не волновали меня, а пробуждали лишь умозрительные заключения, таким же умозрительным образом они, по-видимому, и были созданы. В них прочитывался кругозор автора, и не больше. Быть может, я ошибался, кто знает, ведь среди посетителей мастерской я встречал и таких, кто восхищался картинами, и таких, кто сыпал комплименты только для того, чтобы не обидеть хозяина. Я тоже хвалил картины, потому как говорить напрямую считал бесполезным, да и не хотел обидеть друга – он был очень самолюбивым человеком… На его просьбы об искреннем отзыве отвечал согласием, но знал, что эта искренность может его оскорбить. Уже сколько раз у нас бывали споры – и какие ожесточённые! – о ранних работах. Вдобавок ко всему я знал, что он не считался с чужим мнением и уважал только собственное, больше того, он учил себя быть одержимым, поэтому так упорно постигал секреты великих мастеров, молился на них, а мнение таких, как я – земных людей, было для него пустым звуком. Поэтому, наверное, мы никогда и не говорили с ним об искусстве. Дружили мы давно и много времени проводили, вместе. Конечно, без разговоров о живописи не обходилось, но я всегда вёл себя сдержанно, торопясь, поскорее переменить тему; когда же это не удавалось, всем своим видом показывал, что не расположен говорить о том, в чём мало смыслю.
Если же с нами был кто-то ещё, я замолкал, а когда во время таких бесед мой друг, распалясь, доказывал что-то очередному оппоненту, отсаживался от стола и смотрел на череп.
В поле моего зрения, когда я разглядывал этот посмертный лик человека, попадали картины друга и, конечно же, книги с репродукциями – такое вот созерцание и навело меня однажды на одну занимательную мысль. Мне вдруг показалось, что картины друга похожи на череп: сделанные по всем известным; ему художественным законам, они были лишены одухотворённости и живой плоти. В картинах угадывались образы, уже воплощённые когда-то великими мастерами, так же, как в костяной нерукотворной чаше мне виделись черты живых людей, которых, увы, уже не было на свете. Сказать об этом вслух было бы, наверное, жестоко, хотя мой друг постоянно твердил о том, что именно критика побуждает творца к сознательным поискам. Только вот кому как… Я сам однажды резко покритиковал начинающего литератора, думая, естественно, что он избавится, от своих недостатков, а получилось так, что он совсем забросил работу и в своём отречении от литературы обвинял, как выяснилось позже, именно меня. Я и сегодня чувствую свою вину перед этим человеком и, если случается выступать арбитром, стараюсь быть более милосердным. Даже о беспомощных поделках не говорю прямо. Что же до моего друга, то я знал, что он не бездарь и, раз ищет себя – то, наверное, найдёт. Хотелось верить, что такой неистовый труд не пропадёт даром, поэтому и помалкивал о своем искусствоведческом откровении.
А между тем этот череп не давал мне покоя. Картины ладно… В них были отражены сугубо личные впечатления моего друга. А вот череп – это то, что остается от живого человека и соотносится, я думаю, с каждым представителем рода человеческого. Во все времена люди предавали умерших земле, и все религии освящали этот обряд. Может быть, поэтому присутствие этой посмертной маски среди живых было кощунством, хотя… Хотя мы знаем, что скульпторы, художники, медики обращаются с останками человека запросто, ведь они им просто необходимы, чтобы изучать живую природу.
Я впервые в жизни увидел настоящий череп. Хотя, впрочем, помню, как в школе на уроке анатомии нам показывали скелет человека, и я ужаснулся: «Неужели от твоей головы останется лишь это?» Эта мысль, невыносимая для каждого человека, впервые посетила тогда и меня. Да и сейчас, глядя на этот череп, я чувствую, как мне становится не по себе, хоть я и стараюсь отогнать от себя этот малодушный страх.