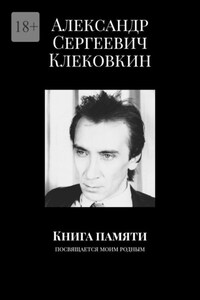Джек проснулся. Вернее, приподнял правое веко, и мутным белком налившегося кровью глаза процедил то изображение, что приходило ему каждое утро после кратковременного сна: его рабочий стол, усыпанный мятыми обрывками испачканной чернилами бумаги (ручка как и прежде, немного подтекала), соседнюю стену, покрытую ядовито зеленой плесенью цвета ненавистных ему плющей, окутавших, как одеялом, засыпающий дом, полуразвалившийся в своей кирпичной постели. Укутанный пыльным покрывалом, испещренным дырами, словно звездами, начинающими своё ночное путешествие после угасающего света багрового горизонта, бледный мертвец своей худощавой рукой, что постепенно пыталась выскользнуть из-под сломившей её тяжести, будто отодвигая плиту египетской гробницы, сорвал с себя оковы заключившей его постели. Тяжело находить равновесие со слипшимся левым глазом и хрустом острых колен, являясь придатком измученной и скрипящей (как и всё тело Джека) кровати. Придаток не давал пощады своему организму и вставал, не оглядываясь (стену, стоящую за железной кроватью, он, вероятно, никогда и не замечал), начиная ничем не примечательный день своей ничем не примечательной жизни, как и многие, многие, многие в его небольшом городке.
Завтраком для него являлся холодный ужин, поджидающий его еще со вчерашнего вечера, и горький черный чай, чем-то напоминающий вязкую болотную трясину, скрывавшуюся под светом равнодушной луны.
Обтянув свои кости тряпичной оберткой, он уселся за стол и начал разбрасываться посетившим его утренним вдохновением. Сначала темно-синие буквы не хотели вылезать из-под шарика скучающей ручки, но потом, набрав обороты и возымея силу над желтым листом шероховатой бумаги, гордо становились рядами, создавая единый, непоколебимый строй:
Отчего я не весел? Написать бы мне песню? Пожалуйста!
Взрастает лесной прелестью
Компост и перегной —
Мужик с разбитой челюстью,
Да выпуклой губой
Встречает утро ветрено,
Встает на две ноги,
Чтоб как мой предок, преданный земле,
По ней ползти.
А небо и не колется,
Да лапки коротки,
За ком газетный борются
Навозные жуки,
Летит комар-кудесник
В зеркально-ясном море:
Видавшим виды – тесно,
Здоровый разум – болен.
Монета что-то стерлась:
Последнего целуя,
Жизнь кое-как притёрлась
На траты вхолостую.
Свет ранит, разливаясь:
Он ходит по тебе,
Как овод, развеваясь
В кровавой волосне.
Тебя боятся бабочки,
И ветер косо гонит,
Ты пьяная наша лапочка —
Янтарный жук на воле.
Ты в образе,
Но не в том
На который
Мать молится —
Без ризы, но облеплен дом
Её дикими просьбами:
«Живите,
Здешние обитатели,
В горящем лозняке».
Под кровом церковной паперти
Вдруг вспомнит о тебе:
Мужик, пойманный зверем —
Безликим седым пауком:
От подбородка тянется к шее-
Так безыскусен мор.
Казалось, что все мухи на окне и даже тараканы под матрасом начали громко аплодировать, вздымая свои крохотные лапки к обшарпанному потолку в поисках предрассветного неба. Но на самом деле звуки исходили из соседней комнаты, где знакомая Джека, сухонькая и дряхлая старушка Бейла, готовила полноценный завтрак для своего любимого мужа, которого уже давно не было в живых. Скворчало подсолнечное масло – его у пожилой госпожи хватило бы и до конца её жизни. На тумбочке в её прихожей, через постоянно открытую дверь можно было увидеть три кубика сахара – странный атрибут жизни пожилой женщины, укоренившийся, разводивший тараканов внутри этой самой тумбы – они прятались в петлях и срали на всё подряд.
Возвращаясь к насекомым, Джек был уверен, что братья наши меньшие не показывали виду только потому, что своим безумным хороводом крошечных лапок и хитиновых панцирей дружно отправились хоронить то, что осталось от мохнатого и жирного паука, или вовсе доедать его беспомощные останки.