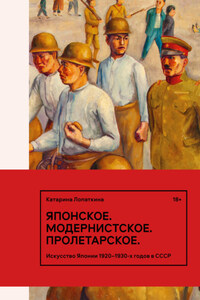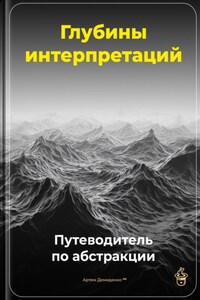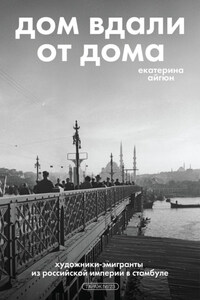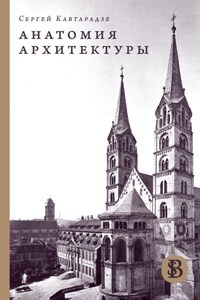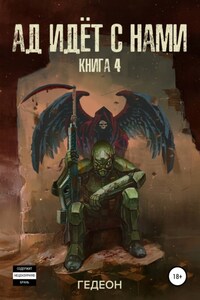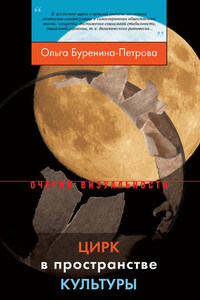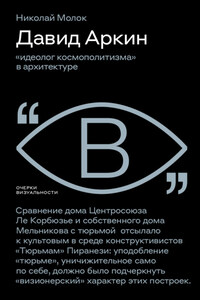Об интересе к памяти и истории
С конца 1980‑х годов в современном искусстве все более актуальными становятся темы истории и памяти. Многие художники обращаются к вопросам личного опыта, переживания исторических событий и передачи воспоминаний; так же и кураторы сегодня уделяют особое внимание проектам, связанным с репрезентацией прошлого. Выставки, посвященные индивидуальной памяти, глубоко переплетенной с историей стран и эпох, проходят как в крупных музеях и центрах искусства, так и в независимых пространствах.
Изучая прошлое, художники чаще всего обращаются к ситуациям конфликтов, войн, распада государств. Иначе говоря, они выбирают те моменты, которые наиболее полно отражают влияние истории на частную жизнь людей. В этом моменте пересечения глобальных, затрагивающих целые страны событий и жизни «маленького человека» и раскрывается вся полнота памяти с ее противоречивостью и оттого пронзительностью, которая отвечает интонации современного искусства. Чилийская художница Сесилия Викунья, только недавно «открытая» для международной художественной сцены, в своем проекте Palabrarmas создавала словарь, описывая абстрактные понятия через конкретность истории или поэтические образы. Использование слов как оружия, о чем нам буквально сообщает название проекта (palabras (слова) + armas (оружие)), отсылает к ситуации захвата власти в Чили Аугусто Пиночетом, но Викунья ищет способ сопротивления через простоту и конкретность личных ассоциаций и историй. Альфредо Джаар, также родом из Чили, в своих работах Rwanda Rwanda1 и The Silence of Nduwayezu2 исследует историю геноцида в Руанде с помощью фотографий и документальной хроники. Израильско-французская художница Эстер Шалев-Герц (о ней потом речь пойдет подробно) записывает рассказы людей, переживших Холокост, а также тех, кто оказался в вынужденной эмиграции. Каждая история выявляет не только силу обстоятельств, повлиявших на человека, но и переплетение политики, экономики, истории с повседневностью. Другими словами, важность опыта каждого человека как носителя определенных воспоминаний осознается художниками особенно остро.
Интерес к личной памяти, который возникает в искусстве, существует не изолированно, а является частью более общего процесса в культуре, который затронул литературу, кино, театр. Он неразрывно связан с событиями XX века, поскольку именно Вторая мировая война и Холокост повлияли на то, как мы формируем наши представления об истории. Вторая половина прошлого века в культуре почти целиком посвящена поиску способов разговора о том, что практически не поддается описанию. Это оказывает воздействие и на художников, поскольку становится невозможно осмыслять современность, не обращаясь к травматическому опыту прошлого. Поэтому в искусстве начинаются активные поиски способов выражения того, что очень сложно было помыслить, а тем более изобразить.
Однако сдвиг в художественных способах высказывания происходит только спустя годы после окончания войны. Подобная ситуация обусловлена необходимостью временной дистанции, которая позволяет сформировать оптику взгляда на прошлое. Например, многие книги, посвященные пережитому опыту, начинают публиковаться сразу после окончания войны. Однако значительное количество произведений, посвященных анализу травматического опыта, будучи написаны «по свежему следу», требуют дистанции для их осмысления – и публикуются только спустя время, потому что люди наконец готовы услышать свидетельства, которые до этого воспринять было практически невозможно.
Постепенно к 1960‑м годам пережитый травматический опыт становится неотъемлемой частью культуры и требует пересмотра старых и поиска новых форм выражения. Художники начинают работать с образами Холокоста, чтобы наиболее точно зафиксировать состояние мира после Второй мировой войны. Например, Ансельм Кифер создает серию фотографий