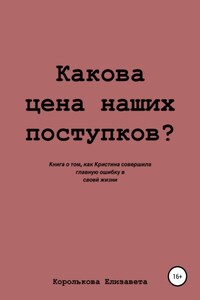Когда я родился, Москва была совсем не та, какая она теперь. Тогда наша столица, на манер яичницы по-крестьянски, состояла из разных разностей, например: арбатского малолюдства, бедности, имперского неоклассицизма с бантиками, битком набитых трамваев, которые противно визжали на поворотах, деревянных домиков самого провинциального вида, трофейных автомобилей, инвалидов, заборов, покрытых матерными инскрипциями, дворников в белых фартуках, бараков, провонявших селедкой и жареным луком, гигантских портретов вождей на кумачовом фоне, конского навоза обочь тротуаров, офицерских шинелей, бандитов и запаха пирожков. Тогда еще Москва кончалась на Окружной железной дороге, Черемушки были обыкновенной деревней, и сразу за Калужской заставой начинался большой пустырь.
В те годы москвичи, жившие по ту сторону Садового Кольца, если смотреть с каланчи сокольнической пожарной части, считались людьми особенного разбора, то есть считались между нами, обитателями окраин, которые, кажется, и тогда составляли огромное большинство. Самих же себя – насельников Перова, Нижних Котлов, Измайлова, Останкина, Марьиной Рощи и прочая, и прочая – мы без обиды трактовали как более или менее простонародье, черный московский люд. Но, в свою очередь, нас считали аристократами жители ближних подмосковных поселков и деревень.
Я родился как раз на границе Москвы окраинной и ближнего Подмосковья, за Преображенской заставой, в селе Черкизове, в двух трамвайных остановках от первого очага европейской цивилизации – кинотеатра с мудреным названием «Орион».
Надо полагать, довольно долго география моей жизни ограничивалась размерами нашей комнаты, в которой вместе со мной существовали мать, отец, старший брат, потом скончавшийся от менингита, и няня Ольга Ильинична Блюменталь. Няня была еврейка, но из прогрессисток последнего имперского поколения и не водилась со своей богатой родней, ни слова не знала на жаргоне (а может быть, притворялась, что не знала) и считала еврейство пережитком античности, который рассосется во времени, как в человечестве растворились бургунды и вотяки. Когда я смотрел на ее милое, улыбчивое лицо с несколько выпученными глазами, то всегда спрашивал себя: отчего это быть евреем так же неприлично, как матерщинником, воришкой и, наверное, вотяком?..
Размер нашей комнаты не превышал десяти квадратных метров, но, правда, потолок был очень высокий, и по малости мне всё казалось, будто бы повыше абажура уже начинаются облака. Главной достопримечательностью этого помещения была голландская печка высотою почти до потолка, с медной отдушиной и слегка пожелтевшими изразцами, которые от старости подернулись паутиной тонких-претонких трещин, вечно складывавшихся то в профиль, то в географическую карту, то в какие-то древние письмена. Интересно, что топилась наша голландка не из комнаты, а из прихожей, по барскому образцу.
Сразу за печкой стояла моя детская кроватка, железная, выкрашенная больничной краской, с веревочной сеткой ромбами, которая не давала мне вывалиться вовне. На самых первых порах это «вовне» представлялось опасным, даже враждебным, поскольку по выскобленному полу временами проскальзывала мышь, и предметы смотрели пугательно, особенно радиоприемник «Телефункен», который моргал зеленым глазом и говорил непонятные, угнетающие слова. Сейчас кажется, что зачаточное понятие о родине возбудила во мне именно моя детская кровать – такое огороженное со всех сторон, теплое, пахнувшее крахмалом пространство, где тебя точно никто не обидит и не предаст. Помнится, я часами простаивал в ней, будто на капитанском мостике, ухватившись, словно за поручень, за обвод сетки, и наблюдал окружающий мир, как если бы это были неизвестные острова.