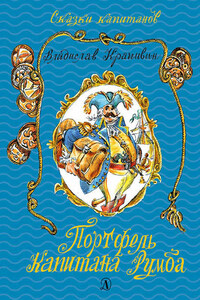Пашка появился стремительно. Он уперся ладонями в подоконник и, перебросив через него сразу обе ноги, прыгнул в комнату.
– На мельницу пойдешь?
– А?
– А – дважды два, пустая голова, – деловито сообщил Пашка. Но все-таки повторил:
– Пойдешь на мельницу?
Это была великая милость: Пашка, для которого я был просто «соседским головастиком», сам предлагал мне свою компанию!
Удивительно! Это надо было обдумать, понять, что к чему. И еще надо было узнать, далеко ли эта мельница, зачем туда идти и когда вернемся. А то придет с работы мама, а меня нет. Ого, что будет!
Но вместо этого я сказал:
– Тогда я тоже ходил, когда вы в Мухин огород лазили. Я караулил, а вы морковь жрали. А мне фиг что дали. Только две морковки. Дурак я, да?
Мне вдруг вспомнились те две тощие морковки. Наешься ими, что ли? И стало обидно. А в своей комнате я был хозяин и с Пашкой мог разговаривать смело.
Но он не разозлился. Он покачал босой ногой и, глядя в сторону, сказал:
– Все по две съели, только Южка четыре, прямо в земле. А больше мы нарвать не успели…
Я вспомнил худого большеротого Южку, как он вылезал из-под забора. Губы его были в земляных крошках, а круглые уши еще шевелились, он дожевывал…
– А на мельнице что?
– Что-что! С дыркой решето… Голуби туда прилетают кормиться. Поохотимся.
– На голубей?!
– Из них в некоторых странах жаркое жарят. Лучше, чем из курицы. Пробовал курицу?
Я сказал, что пробовал. Я не помнил, но ведь пробовал же когда-нибудь, наверно. Хотя бы до войны…
– Рогатку не забудь, – сказал Пашка.
Ну, все сразу стало ясно. Пашка знал, что рогатка у меня мировая, из мягкой белой резины от противогаза. Мне ее сделал одноногий квартирант дядя Вася, который жил у нас весной после госпиталя. Конечно, Пашка выпросит пострелять. Но зато я сразу почувствовал себя увереннее.
– Кто еще идет?
Пашка кивнул за окно. Из-за подоконника, словно круглая луна, медленно подымалась голова Стасика.
– Я тоже пойду, – сообщил он. Подумал и перекинул через подоконник ногу в черно-красной бархатной штанине. Это были американские штаны, Стаськин отец их получил где-то по товарному ордеру.
– Дверей на тебя нет? – прикрикнул я. Со Стаськой можно было не церемониться. Подумаешь, напялил заграничные шкеры, да лазит в чужие окна.
Стаська ногу не убрал, но и в комнату не полез. Так и остался верхом на подоконнике.
– Ну, пойдешь? – дернул бровями Пашка.
– Пойду. Пол вот подмету…
Я схватил жесткий березовый веник и начал добросовестно разгонять по углам пыль. Пашка сел на табуретку и послушно поднял ноги. Он сегодня вообще был какой-то не такой: почти не насмешничал, головастиком меня не обзывал.
Задумавшись, он по-прежнему сидел, поставив пятки на сиденье и уткнув подбородок в колени.
– Пашка… – сказал я. – Ты сегодня какой-то… тихий, что ли…
Он встряхнулся.
– Да не… это так… – Он посмотрел на меня серьезно и вдруг признался: – Мамка все утро опять ревела.
Быстрая теплая волна колыхнулась во мне от того, что Пашка заговорил со мной просто и доверчиво, как с равным. Но я не подал вида. И спросил солидно:
– Опять писем нет?
– Было письмо… А она все равно ревет. Видела сон, будто отец в колодец упал. Говорит, теперь убьют.
– Наша мама тоже сон видела, когда папке руку оторвало, – сказал Стасик.
– Ему и без руки можно работать, директором-то, – хмуро заметил Пашка. – А у нас отец столяр. Куда он, если оторвет…
– А с голубями что? Жарить будем? – спросил я, чтобы скорей отвлечь Пашку.
– Масло тогда надо, – сказал он. – У вас есть?
Я не знал. Кажется, кончилось.
– Мамка карточку на жиры продала. – объяснил Пашка. – Все равно не отоваривают.
– Лучше похлебку на костре сварим, – предложил я. – С укропом.
Мне вдруг очень захотелось попробовать мясную похлебку с укропом.
– Где его взять, укроп-то?
– За сараем растет, где в прошлом году огород был.
– У-у… – сказал Стасик. За сараем были могучие репьи. Конечно, Стасик жалел штаны.
Я хмыкнул. Потому что не боялся колючек.
Путь до мельницы был не близкий. Сначала мы шли по горячему от солнца деревянному мосту. Пашка плевался и подпрыгивал: доски обжигали его голые пятки. За мостом потянулись переулки заречной слободы. В канавах стояли кудлатые козы и лениво жевали желтые стебли «пастушьей сумки». Когда мы проходили мимо, козы переставали жевать и провожали нас печальными глазами.