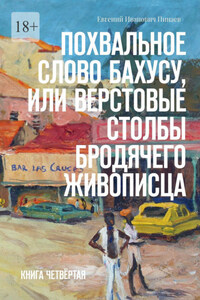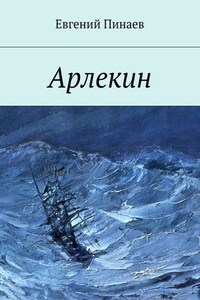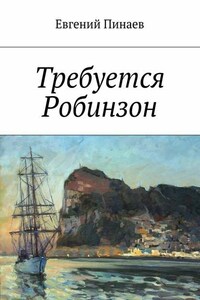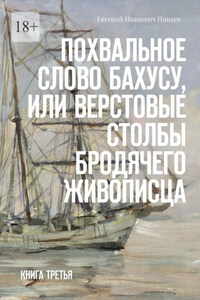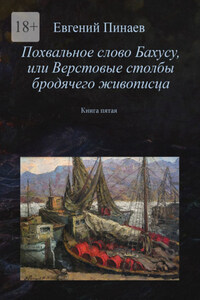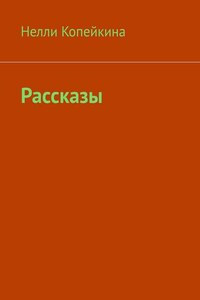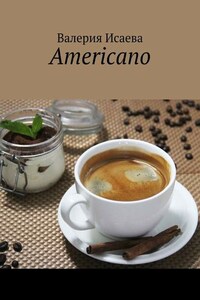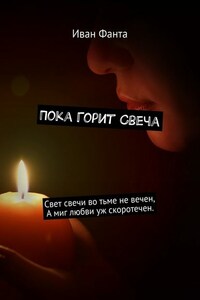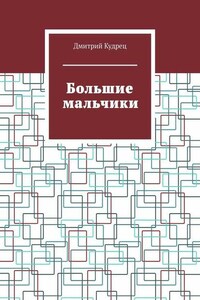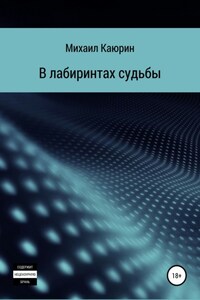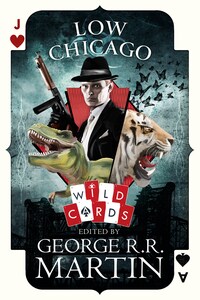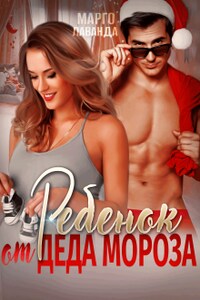Здесь хорошо помечтать о минувших днях и канувших в прошлое лицах и о том, что могло бы случиться, но не случилось, чёрт подери!
Джером Клапка Джером
Как быстро пролетело короткое уральское лето! Впрочем, я его, в сущности, не видел, так как превращал хлев в «башню из слоновой кости», где мог бы, отгородившись от внешнего мира, предаваться пачканью холстов, умственности за книжками и письменным столом, а иной раз и общаться с Бахусом, буде старый хрыч заглянет ненароком.
Подруга задумывалась о последствиях, однако даже помогала в строительстве по мере возможности и наличия сил. Были и другие помощники, но главный вклад в завершении великой стройки индивидуализма внёс мой друг Умелец. Без него не загорелась бы «лампочка Ильича», не появилось бы множество полезностей, без которых немыслимо существование хомо сапиенса даже в эпоху перемен, когда приходится отказываться от этого и того, а то и от того и этого, а порой даже наступать на горло собственной песне, похожей на стон по определению поэта—демократа, изображённого Крамским «в период „Последних песен“».
Конечно, строение имело все признаки так называемой «малухи», но когда к большому окну добавились иллюминаторы, много лет ждавшие своего звёздного часа, когда у камелька повис судовой колокол, а прочие морские инструменты разместились на отведённых им местах, когда акула—молот, которую я некогда выпотрошил и набил опилками на поисковике «Прогноз», повисла под потолочной балкой, бывший хлев завершил метаморфозу и обрёл имя собственное – Каюта.
Первым делом я начал перетаскивать библиотеку. Между делом заглянул в книжку Вэ Вэ Конецкого «История с моим бюстом» и наткнулся на фразу: «Только рабство создало возможность более широкого разделения труда между земледелием и промышленностью. Благодаря рабству произошёл расцвет древнегреческого мира, без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и Рима. А без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной Европы. В этом смысле мы имеем права сказать, что без античного рабства не было бы и современного социализма». За эту фразу, выписанную на листочке и попавшую на глаза бдительным органам, лейтенант Конецкий получил вздрючку, хотя и пытался объяснить, что слова принадлежат не ему, а сподвижнику Маркса Фридриху Энгельсу.
Прочитав сие, я подумал, что японец Мураками вряд ли читал нашего замечательного писателя—мариниста. Он всё-таки больше интересовался русской классикой и довольно часто ссылался на её корифеев. Но Фридрих Энгельс тоже классик в своём роде, так может Харуки заглядывал в его труды, после чего и написал то, что я вынес в эпиграф? Эта цепочка растрогала и позабавила меня, и я, воспользовавшись временным отсутствием подруги, немедленно поднял тост за связь времён и мыслей, запечатлённых в печатном слове, за почивших Вэ Вэ и Фридриха и за здравствующего Мураками: он, хотя и японец, но тоже человек, вдобавок пишущий так, что это позволяет мне время от времени цитировать его. Во всяком случае, чаще, чем Вэ Вэ.
Тост меня размягчил и даже погрузил в сентиментальную истому, из которой вернуло к реалиям жизни настойчивое бряканье в ворота.
Прохор Прохорыч Дрискин, заглянувший ко мне на новоселье, опустил губы ниже подбородка: «Зачем ЭТО тебе?» «Затем, что ЭТО – мне, а не тебе!» – ответил ему с восторгом, и он, заткнувшись, подтянул губы к носу. Обиделся его сиятельство! Неужели за то, что не продал ему свою избёнку и не позарился на предложенные в обмен хоромы, которые он собирался купить мне где-то у леса, в комарином краю на окраине посёлка?! Всё-таки не исчезло в людях стремление к стяжательству, стремление собрать свои владения в единый кулак и образовать эдакое удельное княжество.
Убыл господин Дрискин восвояси, а я начал обживать новодел.
Недавно попалось мне на глаза греческое слово «агорафобия», которое переводится как «страх перед рыночной площадью». И это якобы болезнь. Автор, в романе которого я наткнулся на словечко, называл заболевание «тоской по дому» и считал, что оно не приличествует взрослому человеку. Это почему же, позвольте спросить? Не спид же заклятый, не сифилис и не заурядный трепак. Приличная, я бы даже сказал благородная, интеллигентная болезнь. Даже полезная для некоторых особей с шилом в заднице. Что может быть приличнее желания уединиться, исчезнуть из поля зрения «общества потребления»? Тем более, что моя «агорафобия» – плод не страха, а равнодушия к «площади» с её нынешними ценностями. Христос изгнал менял из храма, но где он, нынешний, который мог бы турнуть эту братию из храма жизни?! Нет его. Это они заняли его место, хотя и прикрываются именем Христа. Поэтому Каюта, ставшая оборонительной башней против засилья пошлости, хлынувшей из «ящика» и с газетных листов, действительно стала, в некотором роде, твердыней, у подножия которой плескались мутные волны житейского моря.