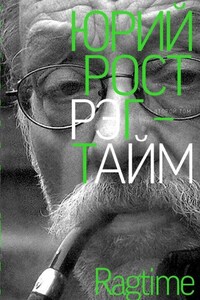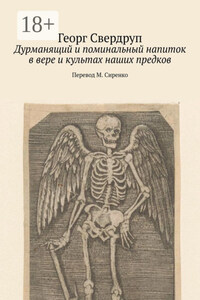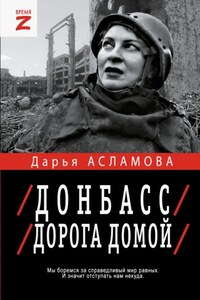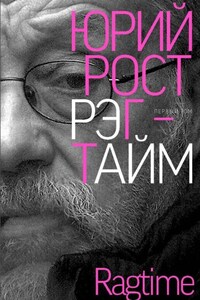– А на какой, примерно, высоте летают обычно ангелы? – спрашиваем мы с сынком Митей Муратовым, проплывая на воздушном шаре в районе Сергиева Посада.
С земли слышны лай собак и негромкие переговоры местных жителей по поводу того, что нам нечего, по-видимому, делать, вот мы и летаем.
Это правда, мы парим в тишине исключительно для радости.
Пилот монгольфьера Сергей Баженов, фыркнув горелкой, подпустил в баллон, напоминающий формой и цветом гигантское пасхальное яйцо, теплого воздуха, и шар, задумчиво преодолевая инерцию покоя, поднялся в легкие облака.
– Наверное, на такой вот и летают. Чтоб из рогатки не пальнули или, не дай бог, из дробовика.
В просвете показалась Троице-Сергиева лавра.
– Смотри! – закричали Муратов и Баженов. – Та́к ведь ее никто, кроме них, не видел.
Ангел по небу летает,
Над пространствами скользит,
Все за нами замечает,
Охраняет, поучает,
Строго пальчиком грозит…
Отпусти нас, добрый ангел,
И лети, куда летел.
Не следи за нами, ангел, —
У тебя довольно дел.
Дай покоя, славный ангел,
Образ жизни измени.
Не летай так много, ангел,
Лучше маме позвони.
Нет! Он все-таки летает
В платье белом и простом.
Тихо крыльями мотает,
Наблюдает, направляет,
Ничего не понимает —
Легче воздуха притом.
Легкий ветер нес шар вместе с облаками на север. В плетеной ивовой гондоле, окруженной белым мраком, пространство не чувствовалось. И время нечем было померить – фляжка давно опустела. Внезапно небо очистилось, и мы увидели под собой широкую мелкую реку и деревню с деревянной церковью под весело раскрашенными куполами. На околице стояли нарядно одетые женщины и дети.
Опустились.
– Что за праздник у вас, – спрашиваем?
– Так вы прилетели, вот мы и обрядились в старинное, у кого сохранилось. Чтоб лучше быть, – говорит бабушка в фартуке.
– Куда уж лучше, – распахивает руки Митя. – Вы замечательные! Мы вас сразу любим.
– Я же говорила, они теперь бригадами летают, – улыбнулась женщина в роскошной меховой шапке. – А вы всё, где крылья, да где крылья?
– Какой нынче год? – спрашиваем.
– У нас-то? Шестьдесят четвертый вроде, а у вас?
– У-у-у!
Мама не любила эту фотографию. Она долго была красавицей, моя мама, и ей всегда говорили, что она выглядит значительно моложе своих лет.
– Зачем ты меня так изуродовал? – Она была строга со мной.
Конечно, я мог бы сделать карточку получше, щелкни не одним, а несколькими выключателями, но я знал, что в коридоре на страже висят восемь счетчиков, и детский страх перед соседями не позволил мне осветить маму ярче. К тому же хотелось сделать фотографию в лучах наших собственных «сорока свечей».
Мы получили две комнаты в огромной, разгороженной фанерными щитами коммуналке сразу после войны. Вход в квартиру был с первого этажа, и отцу, который вернулся на костылях с фронта, не надо было мучиться с лестницами. Наверное, там не очень удобно жилось, но не скучно. Общий счетчик давал простор для выяснения отношений при оплате за электричество, и однажды во имя мира каждый жилец установил собственный счетчик, развесил частные лампочки, и все объединились:
бухгалтер из лагеря для военнопленных немцев, которые шили курточки с кокетками – «бобочки»;
актриса с пожилым мужем, увидевшая на гастролях у провинциальной гостиницы опухшего от голода сироту и усыновившая его;
семья скрипачей из кинотеатра «Комсомолец Украины» на Прорезной, которые без конца репетировали «Ехал цыган…» в крохотном пенале, примыкавшем к гигантской кухне, где на двух вечно занятых кастрюлями и выварками плитах кипели борщи и белье;
чета Миланских с умным мальчиком, который по просьбе родителей мог моментально сказать гостям, какой писатель (на букву «Г») написал «Мертвые души»;
теща директора театра, который в свободное от искусства время скупал часы и зажигалки на толкучке у Байковского кладбища;
лифтерша Федора Романовна, занимавшая антресоль над коридором, куда она, бесстрашно проклиная новую (с семнадцатого года) власть, по вечерам поднималась по стремянке из кухни;
слесарь-механик, бравший работу на дом и тревоживший соседей металлическим скрежетом, когда выпиливал шестерни величиной с паровозное колесо, жена его (в прошлом коллаборационистка), проводившая целые дни, лежа на подоконнике;
наконец, мой любимый сосед дядя Вася Цыганков, который честно отвоевал войну на «полуторках», «ЗИС-5», «студебекерах» и поэтому часто по утрам перед выездом на линию будил квартиру мелодией из фильма «Первая перчатка», наигрывая ее на малиновом аккордеоне «Вельтмайстер», и напевал: «Если хочешь быть здоров – похмеляйся. Похмеляйся, как встал…»
Теперь соседей нет, нет больше мамы, и от квартиры осталось лишь то, что вход на первом, а окна на втором этаже и до Крещатика – два шага.