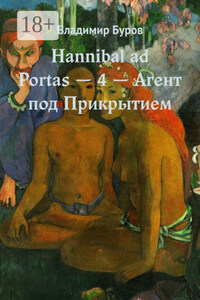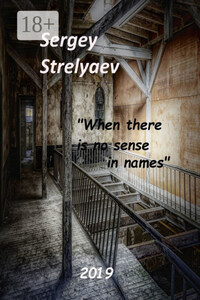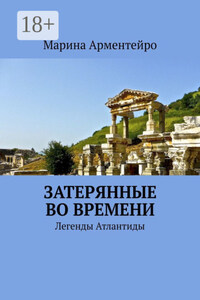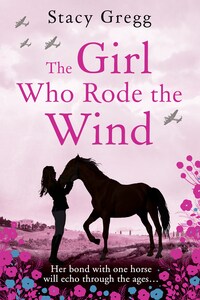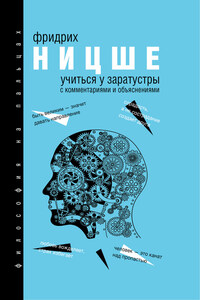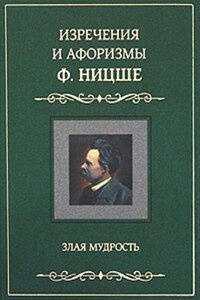Что бы ни лежало в основании этой сомнительной книги, это должен был быть вопрос первого ранга и интереса, да еще и глубоко личный вопрос; ручательством тому – время, когда она возникла, вопреки которому она возникла, тревожное время немецко-французской войны 1870–1871 годов. В то время как громы сражения при Верте проносились над Европой, мечтатель-мыслитель и охотник до загадок, которому выпало на долю стать отцом этой книги, сидел где-то в альпийском уголке, весь погруженный в свои мысли-мечты и загадки, а следовательно, весьма озабоченный и вместе с тем беззаботный, и записывал свои мысли о греках – зерно той странной и малодоступной книги, которой посвящено это запоздалое предисловие (или послесловие). Прошло несколько недель, как сам он уже был под стенами Меца, все еще не отделавшись от тех вопросительных знаков, которые он поставил к мнимой «жизнерадостности» греков и греческого искусства, пока наконец в том исполненном глубокой напряженности месяце, когда в Версале шли переговоры о мире, он и сам не нашел в себе примирения и, выздоравливая от полученной на поле сражения болезни, не установил для себя окончательно «Рождение трагедии из духа музыки». – Из музыки? Музыка и трагедия? Греки и трагическая музыка? Греки и художественное творение пессимизма? Самая удачная, самая прекрасная, самая завидная, более всех соблазнявшая к жизни порода людей, из всех бывших до сего времени, греки – как? они-то и нуждались в трагедии? Более того – в искусстве? Чему служило греческое искусство?..
Можно догадаться, на каком месте был тем самым поставлен великий вопросительный знак о ценности существования. Есть ли пессимизм безусловно признак падения, упадка, жизненной неудачи, утомленных и ослабевших инстинктов – каковым он был у индийцев, каковым он, по всей видимости, является у нас, «современных» людей и европейцев? Существует ли и пессимизм силы? Интеллектуальное предрасположение к жестокому, ужасающему, злому, загадочному в существовании, вызванное благополучием, бьющим через край здоровьем, полнотою существования? Нет ли страдания и от чрезмерной полноты? Испытующее мужество острейшего взгляда, жаждущего ужасного, как врага, достойного врага, на котором оно может испытать свою силу? На котором оно хочет поучиться, что такое «страх»? Какое значение имеет именно у греков лучшего, сильнейшего, храбрейшего времени трагический миф? И чудовищный феномен дионисического начала? И то, что из него родилось, – трагедия? – А затем: то, что убило трагедию, сократизм морали, диалектика, довольство и радостность теоретического человека – как? не мог ли быть именно этот сократизм знаком падения, усталости, заболевания, анархически распадающихся инстинктов? И «греческая веселость» позднейшего эллинизма – лишь вечерней зарею? Эпикурова воля, направленная против пессимизма, – лишь предосторожностью страдающего? А сама наука, наша наука, – что означает вообще всякая наука, рассматриваемая как симптом жизни? К чему, хуже того, откуда – всякая наука? Не есть ли научность только страх и увертка от пессимизма? Тонкая самооборона против – истины? И, говоря морально, нечто вроде трусости и лживости? Говоря неморально, хитрость? О Сократ, Сократ, не в этом ли, пожалуй, и была твоя тайна? О таинственный ироник, может быть, в этом и была твоя – ирония?
То, что мне тогда пришлось схватить, нечто страшное и опасное, – проблема рогатая, не то чтобы непременно бык, но во всяком случае новая проблема; теперь бы я сказал, что это была проблема самой науки – наука, впервые понятая как проблема, как нечто достойное вопроса. Но книга, в которой я тогда дал волю моей юношеской смелости и подозрительности, – что за невозможная книга должна была вырасти тогда из столь не подходящей для юности задачи! Построенная из одних преждевременных, зеленых переживаний, которые все стояли на границе того, что может быть передано словами, поставленная на почву искусства – ибо проблема науки не может быть познана на почве науки, – быть может, книга для художников, обладающих попутно аналитическими и ретроспективными способностями (т. е. для исключительного сорта художников, которых надо поискать, да и искать-то не хочется…), полная психологических нововведений и артистических секретов, с артистической метафизикой на заднем плане, юношеское произведение, полное юношеской смелости и юношеской тоски, независимое, упрямо самостоятельное даже там, где оно, по-видимому, подчиняется какому-либо авторитету и собственному благоговению, – короче, первый плод, также и во всяком дурном смысле этого слова, страдающий всеми ошибками молодости, несмотря на выставленную им старческую проблему, прежде всего ее «длиннотами», ее «бурей и натиском»; с другой стороны, в смысле успеха, который ему выпал на долю (в особенности у того великого художника, к которому он обращался, как бы вызывая на диалог, – у Рихарда Вагнера), – оправдавшая себя книга, я хочу сказать, такая, которая во всяком случае удовлетворила «лучших своего времени». Уже по одному этому к ней следовало бы отнестись с некоторой оглядкой и молчаливостью; тем не менее я не хочу вполне скрыть, насколько она теперь кажется мне неприятной и сколь чуждой она теперь, по прошествии шестнадцати лет, стоит передо мной – перед моим возмужалым, в сто раз более избалованным, но нисколько не охладевшим взглядом, которому не стала более чуждой и та задача, к решению которой впервые приступила эта дерзкая книга, –