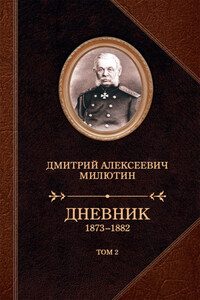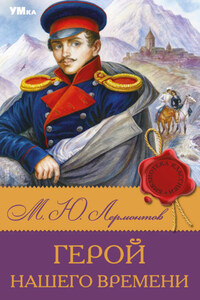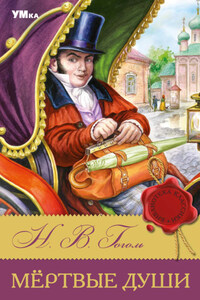Вот уже пятое обозрение годового бюджета русской литературы представляем мы нашим читателям. Обязавшись перед публикою быть верным зеркалом русской литературы, постоянно отдавая отчет во всякой вновь выходящей в России книге, во всяком литературном явлении, «Отечественные записки» не вполне выполнили бы свое назначение – быть полною и подробною летописью движения русского слова, если б не вменили себе в обязанность этих годичных обозрений, в которых обо всем, о чем в продолжение целого года говорилось, как о настоящем, говорится, как о прошедшем, и в которых все отдельные и разнообразные явления целого года подводятся под одну точку зрения. Не ставим себе этого в особенную заслугу, потому что видим в этом только должное выполнение добровольно принятой на себя обязанности; но не можем не заметить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знают, что большая часть этих годичных обозрений постоянно наполнялась рассуждениями вообще о русской литературе и, следовательно, о всех русских писателях, от Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взгляд на прошлогоднюю литературу, главный предмет статьи, всегда занимал ее меньшую часть. Подобные отступления от главного предмета необходимы по двум причинам: во-первых, потому, что настоящее объясняется только прошедшим, и потому, что по поводу целой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и несколько статей, более или менее интересных; но о русской литературе за тот или другой год, право, не о чем слишком много или слишком интересно разговориться. И это-то составляет особенную трудность подобных статей. Легко пересчитывать богатства истинные или мнимые; много можно говорить о них; но что сказать о бедности, близкой к нищете? Да, о совершенной нищете, потому что теперь нет уже и мнимых, воображаемых богатств. А между тем о чем же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературе? Ведь у нас литература составляет единственный интерес, доступный публике, если не упоминать о преферансе, говоря о немногих, исключительных и как бы случайных ее интересах. Итак, будем же говорить о литературе, – и если, читатели, этот предмет уже кажется вам несколько истощенным и слишком часто истощаемым; если толки о нем уже доставляют вам только то магнетическое удовольствие, которое так близко к усыплению, – поздравляем вас с прогрессом и пользуемся случаем уверить вас, что мы, в свою очередь, совсем не чужды этого прогресса и что в этом отношении вы не правы, если вздумаете упрекнуть нас в отсталости от духа времени и в наивной запоздалости касательно его интересов… Еще раз: будем рассуждать о русской литературе, – предмет и новый и любопытный…
Переходчивы времена, как подумаешь! Вспомните о том, что так сильно интересовало вас, что давало такую полноту вашей жизни и что было еще так недавно, – вы поневоле воскликнете с грустию:
Свежо предание, а верится с трудом!
На Руси еще не вывелись люди, которые
Известья черпают из забытых газет
Времен очаковских и покоренья Крыма;
{1}люди, которые со вздохом вспоминают о пудре, о косах с кошельками, о висках à la pigeon,{2} о шитых кафтанах, о шляпах-корабликах, об атласных штанах, о шелковых чулках и башмаках с брильянтовыми пряжками и красными каблуками; о роброндах, о фижмах, о мушках, о менуэте, о гросфатере, о вельможеских столах, куда всякий pauvre diable[1] мог явиться за подачкой, наесться и напиться и за все это расквитаться только униженным поклоном щедрому амфитриону, который так же мало замечал этот поклон, как и тех, кто сидел за столом его; о фейерверках, о пирах, о «Петриаде» Ломоносова, о трагедиях Сумарокова, «Россиаде» Хераскова, «Душеньке» Богдановича, одах Петрова и Державина и обо всей этой поэзии, столь плодовитой, столь громкой, столь однообразной, некогда возбуждавшей такое благоговейное удивление, а теперь известной большею частию только по воспоминаниям, по преданию и по слухам…
И правы, сто, тысячу раз правы эти вздыхающие остатки, одиноко и безотрадно уцелевшие от тех времен; вокруг них «все новое кипит, былое истребя».{3} Мир их и мир наш – два совершенно различные мира, между которыми нет ничего общего. Говоря с нами, они с трудом понимают в наших устах русский язык, так страшно изменившийся с тех пор; что же до наших понятий – они не вразумительны для них даже и при посредстве самого точного и верного перевода на их понятия. Положение таких людей можно сравнить только с несчастием – вдруг ожить, пролежав лет восемьдесят под тою землею, на которой все двигалось и изменялось с быстротою изумительной. Да, им, этим добрым людям, есть о чем вздыхать! Но эти люди теперь – исключение, дорогая редкость, нечто вроде подлинника несторовой летописи, если только подлинник несторовой летописи где-нибудь еще существует или существовал когда-нибудь. Но теперь есть еще довольно людей другого мира, более близкого нашему. Это люди, которые юношами любовались на блестящий закат царствования Екатерины II и с гордыми надеждами встретили кроткое сияние царствования Александра Благословенного; которые еще не успели привыкнуть ни к пудре, ни к пуклям и весело расстались с этими атрибутами отошедшего к вечности века; которые без поверки, без сомнения, повторяли громкие фразы пожилых и старых людей о величии Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова и Державина, но которые уже плакали навзрыд над «Бедною Лизою», предавались нежной меланхолии при чтении «Натальи, боярской дочери» и восхищались «Письмами русского путешественника». При этом поколении оды были еще в ходу, но более по укоренившемуся в прошлом веке благоговению к их громогласию, нежели вследствие потребностей наставшего нового века. Скажем более: ода тогда уже отжила свое время, и ее громозвучные возгласы были заглушены томными вздохами и нежным журчанием сладких слез. Одам не переставали удивляться, считая их высшим родом поэзии после героической поэмы; но новых даровитых одистов не являлось. Дмитриев пробовал писать оды, но только пробовал (что не помешало ему, однакож, жестоко осмеять оды в остроумной сатире «Чужой толк», – и настоящий успех имели его песни, басни, сказки, эпиграммы, надписи и мадригалы, а не оды. Между молодым поколением начали потом появляться esprits forts,