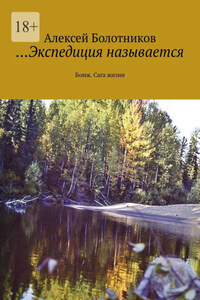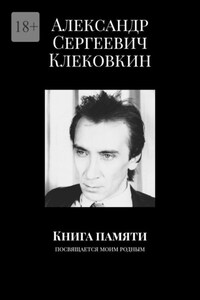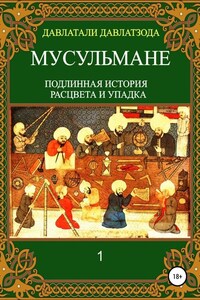«И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума».
Пушкин
«Последний раз иду до Аптекарского острова… – и, испугавшись категоричности, добавил: – Пешком!» – обещание, которое я дал себе где‑то на полпути к месту встречи с Ольгой Карповной, поскольку я выбился из сил, замёрз, и в левой ноге завыл какой‑то сустав. Решил прыгнуть в трамвай, но не успел перебежать улицу – и потому отступил в булочную, где в кондитерском чаду отмерзающие уши подслушивали, пока глаза изучали многообразие глазури на эклерах.
«Я вышел из кино и понял: реальность невыносима».
«Ох…»
«Но, если бы я вышел на улицу, как выходят из заточения, это было бы хуже?»
«Точно-точно».
«Но кино, в котором жизнь, какая она есть – это же нелепость. Что значит: какая она есть?»
«Непонятно».
«Жизнь трудна».
«О, да. О, да…»
«В кино у меня должны вырасти крылья, которые не исчезнут после титров».
«Вы правы, вы правы…»
Значит, крылья должны не исчезнуть после титров. Поеденный большим расстоянием (прежде говорившие стояли передо мной в очереди), следующий разговор был у тех, кто случился стоящими за высоким столом у стены, в глубине зала. Своим внешним видом несколько выпавший из всех приходящих на ум эпох, а манерой речи – из всех культур, горячо говоривший был как некто, излечившийся от длительной депрессии или расторгший несчастливый брак, или просто переступивший порог старости – как бы эмигрант в страны более развитые и счастливые, смотрящий теперь на всех-всех-всех, как на непременно «оставшихся» – и там оставшихся, где его теперь нет: в болоте несчастий и глупостей.
«… моё "не верю" – это не слабость апостола Фомы, а селекция великого Станиславского. Я изгоняю фальшь, а не колеблюсь!»
«Окей. Собственно, я не прошу вас…»
«А я вас не слушаю. И знаете, почему? Потому что ваше поколение – это поколение слабых людей. На повороте с Каменноостровского стоят двое ваших. Курят. Подхожу к ним, прошу огня. Оказывается: они курят какие-то, что ли, электронные конфеты?.. А я-то был уверен, что химозный запах идёт от кондитерских цехов!»
«Да, сейчас время слабых. Незачем ставить на вид стоящее на виду».
«Как сказали?»
«Время слабых».
«Время тупых!»
«Без проблем», – возражавший подросток мгновенно потерял интерес и, воспользовавшись паузой, отступил – и вышел из булочной. Повернувшись к окну, он скосил глаза и высунул язык, как бы изображая утомлённость и раздражение. Разомкнув очередь, я двинулся ему вослед. Но только я отворил дверь, и меня обволокла ледяная влага – во рту точно ожили вкусовые призраки заварного теста и черничного крема, в которых я себе только что отказал.
Отступление! Конечно, литературное, а не тактическое, – как хихикнул однажды певец бегущих аристократов. Видите ли, коль скоро высшим и окончательным Фаусту представилось не какое-то там чувство, а предчувствие, тогда как всякий европеец в силу, быть может, какой-то полумистической косности, застрявшей в его языке (или зубах), – немного Фауст, – то есть он как бы осуждён замечать присутствие счастья именно в предчувствии: завтракать, воображая обед, любить, воображая будущее свидание, жить, воображая посмертное бытие… Короче говоря, как раз-таки этого самого предчувствия – открытого океанического горизонта, ровной линии, свободной от плескотни и неотвязного шума, – в ноябре нет. Завершённое лето и надвигающиеся холода можно сравнить с попыткой неврастеника заснуть: он утомлённо ворочается, мечтая с жадностью наброситься на обрывок сна и им забыться (ведь северное лето – не сновидение ли?), но сон не даётся жадным до сна, скорее он даже настигнет не желавшего спать – мучимый бессонницей неврастеник с ужасом в какой-то момент замечает, что ночь кончается: за окном начинает светать. А это значит: весь предыдущий день не развоплотится в призрак «прошедшего», а сольётся с наступающим – шлейф недодуманного и недоделанного удлиняется, тяжелеет и будет путаться в ногах весь этот нескончаемый и мучительно скучный день.
Осматриваюсь. Троицкая площадь – плечевой сустав улицы, на которую я вышел. В локте надломанная она выходит запястьем в Сампсониевский мост, а потом топырит пальцы в Выборгскую сторону, как бы указуя. Туда же, по направлению «на Северный вокзал», ушёл уже третий по счёту трамвай, не способный мне ничем помочь. Раз дождь, раз слякоть – я отступил от бестолкового ожидания в булочную, откуда только-только вышел, – вышел, поскольку пушок на щеках и развязность походки подростка, парламентировавшего от стороны «слабых», показались мне странно знакомыми.
Я обознался (или так и не вспомнил, как знать?), а ошибка отяготила большей действительностью черничный крем, всё ещё сосущий из-под языка слюну…
Раз! – два. – три… Как будто что-то порвалось? Что-то гигантское. День – на двое. Только-только взбирался он в гору, только-только выбрался из мрачного ущелья – теперь вновь летит с горы в ночь. Сшиб этого горного путника полуденный выстрел с Трубецкого бастиона, а потом – на случай, если ты не услышал или тебе нужны подтверждения, – Дворцовая набережная ответила эхом. И чтобы наверняка, следом, более протяжным эхом, более отдалённым, более тоскливым, как лопнувшая струна в «Вишнёвом саду», – перекличку замкнул своей набережной Макарова Васильевский остров. Теперь всё от Малой Невки до Обводного канала, от Гавани до Охты, от Павловского парка до Сестрорецких болот, от Кронштадта до Ладожского озера -.