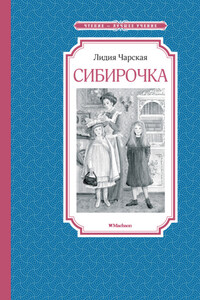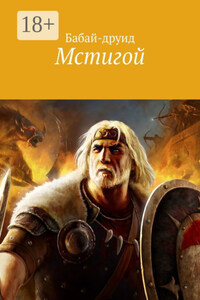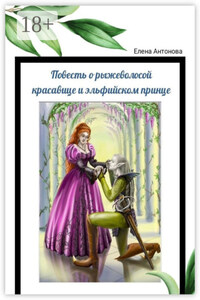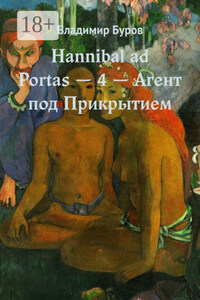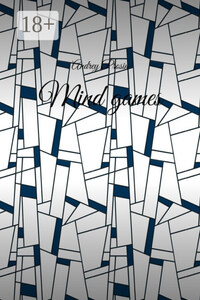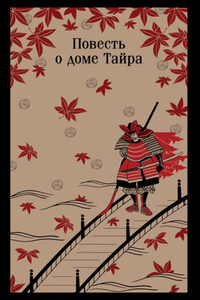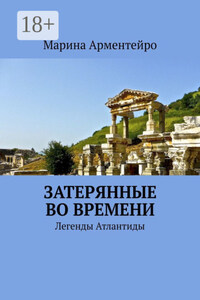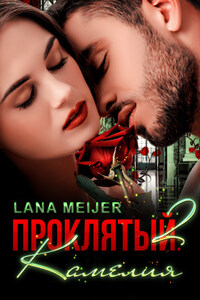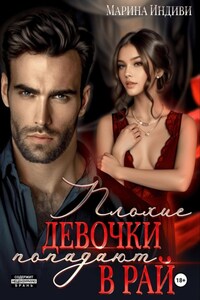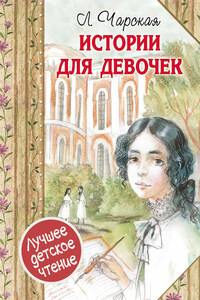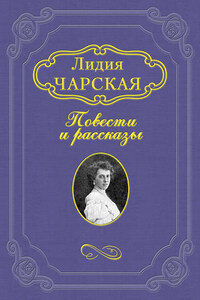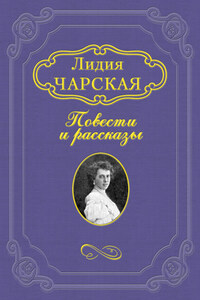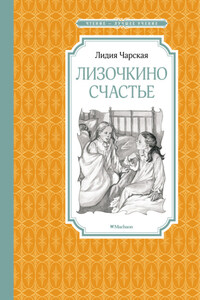«Иногда для счастья надо совсем немного…»
Лидия Чарская – псевдоним Лидии Алексеевны Вороновой (1875–1937). Она родилась, по одним сведениям, в Царском Селе, а по другим – на Кавказе. Сама Чарская утверждала, что появилась на свет вовсе не в 1875 году, а на три года позже. Однако существует документ, где написано, что девочка «родилась 19 числа января 1875 года».
Рождение будущей писательницы и впрямь окутано тайной. В тот день, когда малютка появилась на свет, стояли крепкие морозы, гудела вьюга, а люди спешили в церковь на службу. Однако этот радостный зимний день омрачился смертью матери Лиды – Антонины Дмитриевны, все сёстры которой в тот же момент пообещали воспитывать девочку как свою родную дочь. Одна из девушек воскликнула: «Ребёнок родился в воскресенье! А воскресные дети бывают обыкновенно счастливы». Так тётушка будущей писательницы предсказала необыкновенную судьбу ребёнка. Чарская не раз признавалась: «Решительно, я самый счастливый человек в мире! И любят меня все, и стихи писать могу…»
Маленькая Лида любила убегать от няни в сад и представлять, что она принцесса этого маленького цветущего королевства, за которой пустился в погоню злой волшебник и которую непременно должен спасти прекрасный принц. Однажды к подросшей девочке пригласили гувернантку Катишь (Екатерину) – прелестную девушку из Николаевского сиротского института, ставшую её добрым другом. Вместе с ней они не только одолевали коварные спряжения, но и по вечерам взахлёб читали книги. Катя много рассказывала маленькой Лиде о жизни в институте, о балах и влюблённостях. И поэтому, когда пришло время поступать в Павловский женский институт в 1886 году, девочка обрадовалась: «Катишь сумела привить мне интерес к той таинственной жизни, где несколько сот девочек развиваются среди подруг. И потому я заранее знаю, что меня полюбят там и мне будет хорошо».
Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Пребывание в пансионе оказалось совсем не таким, как представляла себе Лида. Жизнь институтских затворниц была подчинена строгому регламенту, а каждый шаг контролировался суровыми классными дамами и воспитательницами. Стало ясно, что не так-то просто среди таких же девочек в накрахмаленных форменных платьях воображать себя принцессой и посвящать много времени играм и чтению, как привыкла Лида, живя дома. Недаром к своей автобиографической повести «За что?» (1909) Чарская выберет именно такие строки в качестве эпиграфа:
Детства дни – луч солнца яркий,
Как мечты прекрасный луч.
Детство – утро золотое,
Без суровых, мглистых туч.
Воспоминания о годах, проведённых в Павловском институте, отразятся в сюжетах произведений «Записки институтки» (1901) и «Тайна института» (1916), где писательница расскажет о жизни девочек в стенах закрытого учебного заведения, благодаря строгим устоям которого, по воспоминаниям уже взрослой Лидии, она научилась терпению и смирению.
Тут же в институтские годы раскрылась её способность к сочинительству, но поначалу Лида увлеклась написанием стихотворений. Первые её опыты были специально зачитаны её подругой на уроке словесности. «Ах! – я тихо вскрикнула и рванулась с парты. Это ведь моё стихотворение! Моё! Моё!» Дослушав стихотворение до конца, учитель воскликнул: «Автора называть не надо. Он выдал себя сам с головой этим пылающим лицом и пурпуровыми ушами… У вас есть талант!» Так в классе появилась юная поэтесса, о которой вскоре знал весь институт.
После выпуска красавица Лидия сразу же вышла замуж. И хотя в 1897 году девушка была принята на драматические курсы в Императорское петербургское театральное училище, она не оставляла мечты о писательстве. Играя в экзаменационных спектаклях, Лидия Воронова начала использовать псевдоним Чарская (от «чары», «очарование»). Спустя год после окончания курсов она поступила в Александринский театр, в котором прослужила до 1924 года.
Свободное от работы время Лидия посвящала сочинению сказок, повестей и рассказов для детей. Среди них – повесть «Сибирочка» (1908), где рассказывается о девочке, оставшейся в младенческом возрасте без родителей в глухой тайге, но по счастливой случайности найденной и воспитанной как родная приёмным дедом – добрым птицеловом Михалычем. Злоключения девочки начинаются после его внезапной смерти. Сибирочка попадает в руки к разбойникам. В плену у бандитов она знакомится с мальчиком Андрюшей, с которым они вместе отправляются в Санкт-Петербург в надежде найти дочку вырастившего Сибирочку старика. Но не всегда дети оказываются такими же добрыми и отзывчивыми, как их родители… Недаром в одном из произведений в уста своих героев Чарская вкладывает такие слова: «Помните, нет на свете порока хуже лжи! Ложь – это начало всякого зла!» Но иногда для борьбы со злом и обретения счастья нужно и впрямь совсем немного – бесконечная любовь к людям и вера в них…