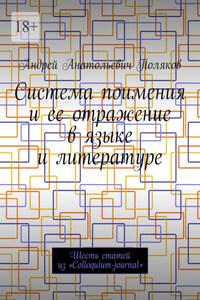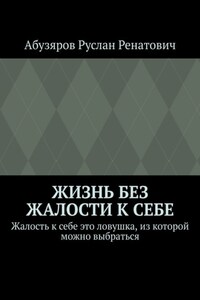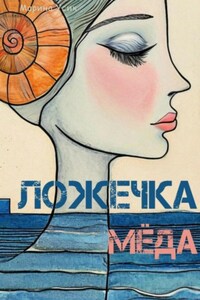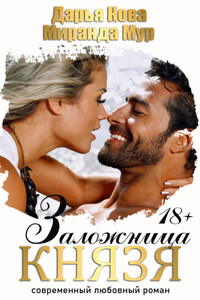Андрей Поляков
Система поимения и ее отражение в языке и литературе.
Шесть статей из «Colloquium-Journal»*
Посвящается светлой памяти моей мамы, Поляковой Тамары Демьяновны.
I Психология и происхождение слов в русском языке, в языках других индоевропейских народов, а также, возможно, и в языках других семейств, групп, ветвей и проч.
С детства меня занимал вопрос: почему мы так говорим, откуда взялась наша речь? Интерес разжигал, но не удовлетворял, имевшийся у нас этимологический словарь [2] – книга очень интересная, но в ней были в основном такие объяснения, как «происхождение неясно», «происходит из (имярек) языка», изредка объяснялось, что первоначально «слово обозначало…», и, уж совсем редко упоминалось происхождения некоторых слов от звукоподражания. Тогда я стал интересоваться теориями происхождения речи и слов. Из множества теорий мне приглянулись три теории: 1) М. Миилера о совмещении жестов и звукоподражания [14]; 2) Со-крата, утверждавшего, что названия всех вещей (их имена) соответствуют их природе и свойствам; 3) Лукреций Кар в своей книге «О природе вещей» писал о том, что наша речь возникла для передачи информации и эмоций, он также придерживался и звукоподражательной теории происхождения языка, считая, что древние люди подражали звукам, издаваемым животным, что и привело к появлению речи. [13]. Произошло это потому, что данные теории частично соответствовали моим знаниям и жизненному опыту. Они не объясняли всего, но наводили на мысли…
Л. Я Гозман книгу «Психология эмоциональных отношений» начинал с того, что предлагал чи-тателям начать речь с уговором о терминах, о том, какое слово, что будет обозначать. Это было нужно для того, чтобы читатель мог правильно понять мысль автора. Здесь же говорилось о том, что межличностные отношения имеют эмоциональный (оценочный) компонент [1]. Пообщавшись с кем-нибудь, мы составляем себе мнение о нем: плох он или хорош и, если у нас есть с кем поделиться впечатлениями, мы передаем ему эту информацию. То есть мы попадаем в систему поимения, находясь в которой мы постоянно даем свои имена всему окружающему нас и происходящему с нами, и в свою очередь сами получаем от других наши новые имена.
Само понятие системы поимения указывает на то, что она завязана на предъявление каким-нибудь «субъектом» своих прав на некий объект, «носящим имя», данное субъектом, действующего на этот объект. И самым важным способом изъявления своих прав субъектом является речь. В древние времена доходило даже до того, что на некоторые слова накладывалось табу, которое «было связано… с магической верой в силу слова: если знаешь имя – знаешь человека и имеешь силу над ним» [11].
Для того чтобы понять как зарождалась наша речь, нам нужно заглянуть в такое далекое про-шлое, которое принято называть «младенчеством» человечества. А также посмотреть, как мы пытаемся знакомить наших современных младенцев с окружающим миром. Если мы показываем младенцу корову, то говорим ему: «коровка – «му», собачка – «гав-гав», киска – «мяу-мяу», машина – «бибика» и так далее. То есть мы в представлении ребенка связываем все объекты окружающего мира со звуками, которые эти объекты могут производить, то есть занимаемся звукоподражанием [12].
Вполне вероятно, что это осталось в наших генах, то, как древний человек осваивал окружающий его мир и пытался передать звуками информацию другим. Ведь очень трудно жестами и мимикой расска-зать о чем-либо другим, тем, кто с этим не сталкивался или не знает о том, что рассказчик имел дело уже с чем-то знакомым, но для чего трудно подобрать знаки или трудно нарисовать, хотя бы в силу того, что рассказчик не является художником [10].
Лучше всего для передачи информации использовать звуки, так как с помощью их можно передавать информацию даже в темноте. Звукоподражание позволяло с помощью одного или нескольких звуков связывать различные процессы, объекты и явления в чем-то похожие между собой. И конечно, для словообразования люди могли брать звуки, понятные всем окружающим: звуки текущей воды, ломающейся ветки дерева, ветра, топот, шорохи и шуршания и другие звуки, подражая которым можно было бы рассказать о том, что произошло или может случиться. Эти самые звуки становились основой для слов – корнями, а также приставками, окончаниями, предлогами, местоимениями и т. д. Как это могло происходить мы сейчас, и начнем рассматривать.
Все что кипит, бурлит, оборачивается, поворачивается, варится, валится, течет и проч. подобно бурлящей, кипящей, текущей воде имеет корень «бур-бульк-вольк-бор-вор-вар-вал и проч.» Бульк – вульк – вольк – волочить – владеть – влага (от шума воды) вал, влагалище). Волочить – иметь что-то «низкое», унизить кого-то, владеть им. Волк. Вар – вол – разновидности движения воды: первое – при кипение; второе – при обычной температуре: «брат», «врата», «ворот», «борт», «борьба», «борец», бороться, брат, ворота, ворот, вратарь, враг, вор, вар,. Власть, владелец, властелин, волос, Велес, владеть, властитель, волк, волочить, вол, борона, оборона могут происходить от одного древнего корня и обозначать выброс энергии, обработка, присвоение, возвышение, переворот, подчинение.