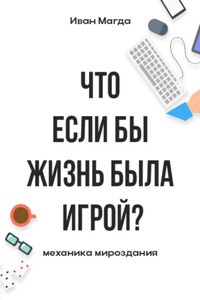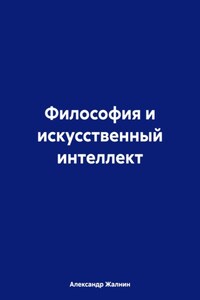Введение
Интерес к авангарду, как к особому миру проявился в данном тексте1 в желании увидеть его “человеческий” образ. Используя философскую терминологию, назовем этот образ экзистенциальным, то есть связанным с самим бытием человека, его присутствием в мире или существованием. Текст построен, как серия философских эссе о некоторых, соотносимых исключительно с экзистенциальной тематикой, сторонах русского авангарда.
Своеобразие изучаемого явления заключается в весьма непростом положении внутри традиции. Дело в том, что в новаторском характере авангарда органично уживаются специфические черты русского мировосприятия. Главная из них – это заданная религиозной традицией и доминирующая на рубеже веков онтологическая проблематика: поиск смысла, целостности и полноты бытия. Одним из решающих для авангарда становится философский вопрос о существовании человека в мире. В рамках данного вопрошания развивается также русская классическая литература, русская метафизическая мысль рубежа веков и философско-художественные течения модернизма.
Смыслы на “границах” жизни и судьбы
Смыслы рождаются на границах. На границах истории, судьбы, жизни. Авангард стал возможен благодаря остро осознаваемой его представителями границы между прошлым и будущим. Люди искусства, чувствительные ко всему происходящему, первыми отреагировали на изменения в культуре и обществе. Они активно принялись за реализацию своих новаторских идей, обуреваемые апокалиптическим предчувствием. Но реализация творческих идей здесь самым тесным образом оказалась связанной с самой жизнью, чаще абсурдной и трагичной, а также с опытом существования в мире. Экзистенциальная тональность становилась все более явной и напряжённой. В русском авангарде мы видим исключительный пример того, как экзистенциальные идеи, ставшие впоследствии темой для размышления европейский философов, получили творческую реализацию. Онтологическая проблематика реализовывалась не столько в теоретическом ракурсе, как это происходило в европейской традиции, сколько в практическом. Здесь были прожиты и прочувствованы все основные темы экзистенциальной философии: время, свобода, смерть, отчаяние, одиночество.
Пожалуй, одним из самых навязчивых и тревожных стало чувство неполноты и “осколочности” жизни. Чувство это не подразумевает пребывания в неком физическом состоянии, но говорит о том особом состоянии, которое связано с необходимостью нахождения полноты мира, а потом уже и своей человеческой полноты, целостности: “Потеря благополучия, отрыв от мира, это коренится очень глубоко. Все горизонты, предохранявшие человека исчезли. С ними исчезло и чувство связи с миром, право на место и внимание в нем, чувство близости мира и важности событий, в нем происходящих. Большинству людей сейчас страшно и неуютно”2. Данное высказывание можно назвать типичным для рубежной эпохи. Экзистенциальный кризис нарастает вплоть до того, что человек начинает терять основания и гарантии присутствия в мире. Само слово “мир” воспринимается конкретно, как затишье между военными действиями и конфликтами. Человек теперь “меньше живет в своем доме и трудится на своем рабочем месте, чем гибнет в окопах, концлагерях, трясется в эвакуационных теплушках, ютится как беженец рядом с извечно случайными спутниками, среди чужих”.3 Наряду с извечной русской тягой к “миру” возникает его отторжение, он становится чужим и чуждым. Вместо мира пред глазами географическое пространство, перемещаясь в котором человек находит хоть какое-то временное утешение (иллюзия разрешения проблематической ситуации). Но наряду с географическим пространством есть еще и пространство мира, требующее своего осмысления, понимания, видения, некоего герменевтического истолкования.
В условиях “потери мира” до катастрофического предела возрастает то, что мы называем сегодня “кризисом идентификации”. Внутри этого недуга сокрыта тотальная разобщенность человека с самим собой, когда “Я” множится словно в зеркальных отражениях. В Европе появляется новое философское направление – экзистенциализм, которое стремилось обеспечить человека новыми векторами выживания в ситуации общемирового катастрофизма и слома. Онтологические основания подобного настроения были подмечены М. Бланшо. В его эссе о творчестве Рильке, есть строки о неприятии поэтом исчезновения предмета в современной живописи, – “ибо от того, насколько мы способны принимать вещь, как таковую, зависит наше упование выразить себя через нее: надломленные существа находят для себя лучшее соответствие в обломках и кусках”4. Чувство надломленности и осколочности прорывается из манифестов и теоретических работ авангардистов.5 У указанного настроения вполне отчетливые очертания, проявляющиеся в отношении к истине бытия. Смысловая заинтересованность определенным образом выхватывает человека из его практического и утилитарного измерения (привычного, доведенного до автоматизма) в область метафизическую. Русские религиозные мыслители не раз отмечали то, что в опыте обретения смысла (жизни, истории и т.д.) сосредоточен весь “смысл” существования, ибо смысловая заинтересованность вмещает в себя все возможные умопостигаемые связи с миром. Различные подходы к теме смысла свидетельствуют о напряженном к ней интересе и поиске адекватных времени и состоянию человеческого сознания ответов. Данная проблема не возникает, как интеллектуальная прихоть, но становится особенно актуальной в сложные кризисные моменты истории, когда “почва ускользает из-под ног” и требуется некое обнаружение, восполнение утраченного или потерянного смысла.