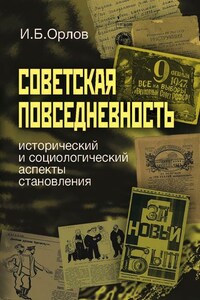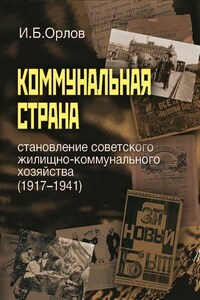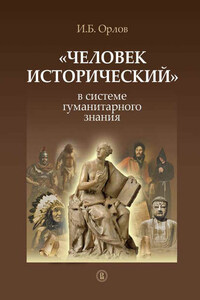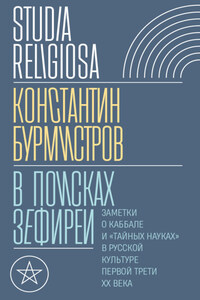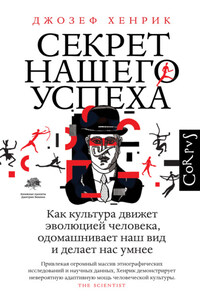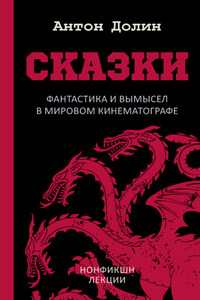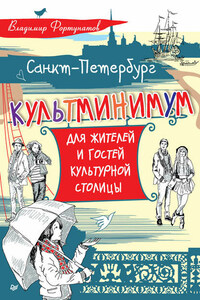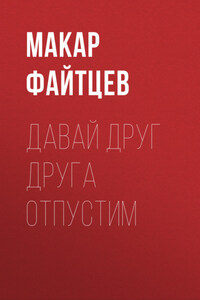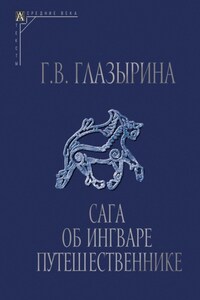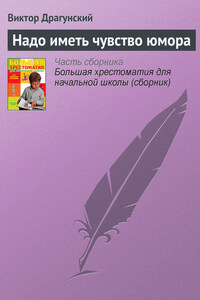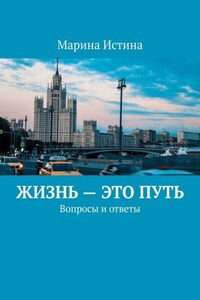Введение
Повседневность как объект научного исследования
Быт можно фотографировать – точка зрения натуралистов и «пролетарствующих» поэтов.
Быт можно систематизировать – точка зрения футуристов.
Быт надо идеализировать и романтизировать – наша точка зрения…
Из манифеста имажинистов, 1924 г.
История общества по существу представляет собой повседневную жизнь человека в ее историческом измерении, отражая некие неизменные свойства и качества по мере закрепления новых форм жилья, питания, перемещения, работы и досуга. Именно в анализе повседневной жизни лежит ключ к разгадке часто возникающего при знакомстве с конкретными судьбами вопроса: как могли люди выживать и сохранять человеческое достоинство в экстремальных условиях революций, войн, террора, голода и разрухи? Как люди приспособливались к жизненным обстоятельствам?
Повседневность кажется ясной не потому, что отрефлексирована, а потому, что ускользает от рефлексии. Обыденную жизнь не анализируют до того, пока ее не нарушит какое-нибудь из ряда вон выходящее событие. Повседневная жизнь выступает объектом исследования для целого ряда гуманитарных дисциплин, среди которых нет согласия даже в определении самого понятия «повседневность». Например, социологи употребляют как синонимы такие понятия, как «обычное ежедневное существование» или «род/образ жизни». В классической социологии под бытом, как правило, понималась область внепроизводственной жизни людей, связанная с процедурами удовлетворения материальных и духовных потребностей в процессе обеспечения жизнедеятельности, рекреации и социализации человека[1]. Социологи, хотя и были заняты анализом повседневности, в сущности, не задумывались о ее определении. Лишь изредка отсутствие исследований повседневности воспринималось как проблема: «Мир повседневности, хотя он и предоставляет социологии предпочтительные исследовательские объекты, сам лишь изредка оказывается самостоятельным объектом анализа» [Zimmerman, Pollner, 1979. S. 64].
Однако в современной социологии анализ феноменов быта постепенно замещается более широкой предметной областью – социологией повседневности, основной целью исследования которой становится изучение правил взаимодействия в определенном сообществе[2]. Наблюдая взаимодействие его участников, социолог выявляет механизмы конструирования изучаемой реальности. При этом цель наблюдения заключается в «открытии формальных свойств повседневных, практических, основанных на здравом смысле действий». Метод проведения исследований же связан с проблема-тизацией повседневности: чтобы найти правила повседневного взаимодействия, необходимо стать сторонним наблюдателем по отношению к обычному характеру повседневных сцен, т. е. отстраниться [Garfinkel, 1994. P. 36].
Социология повседневности на сегодняшний день находится в процессе становления: ее теоретические ресурсы четко не определены, не сформировался консенсус в отношении центральных категорий. Концепты социологии повседневности – «практика», «повседневное взаимодействие», «порядок интеракции», «социальная ситуация», «фрейм» – не образуют единого понятийного пространства. Требует более четкой концептуальной разработки и базовая категория данной области знания – «повседневный мир». Сам термин «повседневность» (нем. Alltaglichkeit) был предложен А. Шюцем для социологической концептуализации понятия «жизненный мир», введенного в научный оборот в феноменологии Э. Гуссерля. В работах А. Шюца и И. Гофмана повседневность трактуется как уровень элементарных порядков интеракции «лицом-к-лицу» (см.: [Гофман, 2002, 2003]), обладающий собственной организацией и когнитивным стилем (см.: [Шюц, 2003. С. 3—34]).
За последние годы социология повседневности существенно обновила свой теоретико-методологический инструментарий. К примеру, критическому переосмыслению в 1990-е годы подверглось философско-социологическое понимание повседневности Шюцем. Сложившийся на основе переосмысления шюцевской феноменологии подход представлен, например, в работах немецкого исследователя Х. Бардта, сделавшего попытку различения повседневных и внеповседневных ситуаций (пограничных, кризисных и драматических, а также моментов откровения и «воспарения» духа, ситуаций, которые переживаются как приключенческие или жизненный «поворот»). Ученый подчеркивал, что фактически переживаемые ситуации зачастую являются «смешанными»: как исключительно внеповседневные ситуации могут быть пронизаны повседневными явлениями, так и исключительно повседневное может нести в себе «экзотику» повседневности [Bahrdt, 1996. S. 144]. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса основана на противопоставлении социальной системы и жизненного мира, которым соответствуют два разных типа рациональности: инструментальная и коммуникативная. Если первый тип связан с адаптацией людей к окружающей среде и ориентирован на увеличение материальных достижений, то второй – с интеграцией людей в сообщество и ориентирован на увеличение социального согласия [Артемов, 2001. С. 23–24].