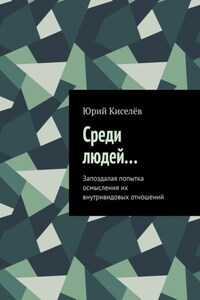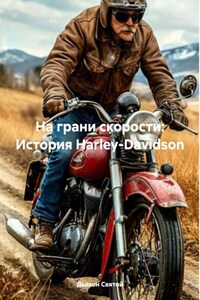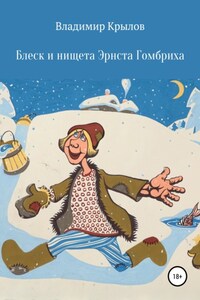Люди по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы; старая истина, которую всё-таки не худо повторить.
А. С. Пушкин – В. А. Давыдову, 1824 г.
Я появился на свет за 2 года и 7 месяцев до 22 июня 1941 года в городе Витебске в Белоруссии.
Собирался стать «генелалом» – это по рассказам моего брата Миши. Он был старше меня на 6 лет..
Однако военная карьера не задалась: дослужился лишь до ефрейтора (одна лычка) в армии.
В первые же дни войны бомбили Витебск. Отца отправили на фронт.
Мама закрыла квартиру на ключ. Все были уверены, что это ненадолго, что немцев скоро выкинут из страны, что «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней».
Наш первый эшелон из вагонов-телятников разбомбили. Всё это, конечно, по рассказам мамы и брата.
Я помню отдельные эпизоды с четырёх – пяти лет. Это уже в «глубинке» Марийской республики в селе Мари-Турек, куда мы приехали впятером: мама с двумя детьми, бабушка и дедушка. В эти дни бабушка научила меня читать. Это было на русской печке под потолком, на полатях, в тепле. А зимы в этих краях суровые – резко континентальный климат.
Мои впечатления Мари-Турекского детства эпизодичны и бессистемны. Таким же (само собой) и будет этот запоздалый дневник. Может быть так и назвать эти записи. Нет, пожалуй, скучновато. Посмотрим.
Надеюсь, что у этих записок будут хотя бы немногочисленные читатели.
Мари- Турек это райцентр примерно в 120 км от столицы – Йошкар-Олы.
Мама работала машинисткой в отделе МВД.
Запомнилось очень ярко: В комнату вошёл нищий без стука. Попросил поесть. Чистили картошку. Протянули ему несколько очищенных картофелин. Он тут же с хрустом съел одну. Картошка и была главной спасительницей у всех.
Очистки сушили и мололи на мельнице. Из этой муки пекли лепёшки. Там на мельнице было страшно. Помню провал в полу, квадратный и там в глубине провала что-то живое, рычащее – это жернова. Дед вскоре после этих лепёшек умер.
Мы остались вчетвером.
Меня отдали в детский сад, Мишка пошёл в школу.
В непролазную грязь Мишке на его ботинки сверху обували лапти с местного рынка. Лапти были с бечёвками-перевязками, что давало гарантии от потери обуви в вязкой грязи.
Мне давали с собой доп-паёк – картофельную запеканку, домашнюю. Дети в саду обступали меня и тянули руки. Доставалось мне в итоге немного.
Нам, как и другим эвакуированным, выделили по нескольку грядок. Я помню уже отчётливо: пригласил соседских девчонок «на морковку». Они изрядно подёргали нашу морковь на грядках. Мою щедрость дома не оценили, восторга не было.
На соседних грядках пахали такие же эвакуированные из Белоруссии, как и мы. И как-то мы услышали напевное: -Нехама имела второе письмо, а Ви? (имелось в виду «А Вы?»). Мой брат всегда был пересмешником, часто передразнивал эту еврейскую интонацию и повторял эту фразу. А смысл её прост: имели ли мы письмо с фронта, как везучая Нехама.
Помню: мама несла меня через какую-то речку или ручей подмышкой. Доски или жерди качались и прогибались. Было страшно над этой «стремниной».
Было бы несправедливо не вспомнить умницу-кошку. Она просилась во двор, тянула и царапала одеяло у спящей бабушки. А возвращалась через форточку. Вероятно, влезала по углу бревенчатой вязки дома.
В Мари-Туреке я впервые узнал, что такое обман (жульничество?), причём предельно наглядно: дома обнаружили, что в колобке масла с рынка была скрыта картофелина.
Вот, пожалуй, и всё из этого времени, что удержала память.
Мы начали собираться в Йошкар-Олу, куда перевели маму.
Мама была хорошей «скоростной» машинисткой и владела редкой профессией стенографистки. Это была замена магнитофонам – скоростная запись речи за докладчиком условными знаками, заменяющими слоги.
Маме присвоили офицерское звание и перевели в МГБ, что и спасло нас от нищеты. Нас было трое, как в то время говорили, иждивенцев.
Ехали в Йошкар-Олу на «полуторке». Я на коленях у мамы, брат с бабушкой на скамейке в кузове. Машина то и дело глохла. Шофёр терпеливо чистил карбюратор и ни разу не употребил матерной брани. Это тоже чудо, потому и отпечаталось в памяти.