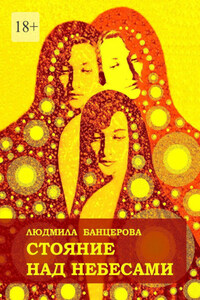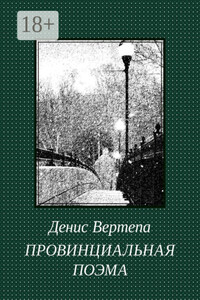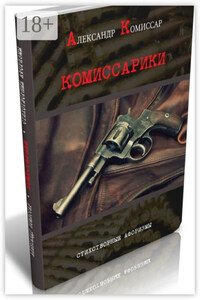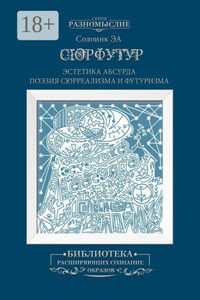ЗЕРКАЛО, ОТРАЖАЮЩЕЕ МIРЪ
О поэзии Людмилы Банцеровой
Поэт – проводник: с Этого Света на Тот Свет, а потом и обратно; его Бог сбрызгивает, для жизни бесконечной, сначала мёртвой, потом живой водой, и из бездны отчаяния выныривает он, и вот он уже полон сил и надежд. Поэта ничем не победишь и ничем не проймёшь, если речь заходит о его служении; и в то же самое время всё пронзает его навылет, он – некая всепроницаемая мембрана, живая и страдальная граница между мiрами.
Поэт Людмила Банцерова создаёт свой собственный миф. Он зашифрован, он закрыт завесой привычного быта, но вот занавес повседневности резко распахивается, и из груди вырывается крик; и быт становится Бытием – тем космическим (и даже космогоническим!) пра-Бытием, и тут поэт превращается в древнейший инструмент, коим создавался прорастающий из Матери-сырой-земли, Материи, вечный Дух.
Работа Духа – вот что непреложно ощущается, когда окунаешься в море Людмилы Банцеровой, плывёшь в волнах её поэзии. И что крайне важно: это поэзия не столько с опорой на драгоценность собственной лирики, сколько на Мiроздание. Это происходит потому, что поэт слишком остро, ножево чувствует Танатос, – под бессонным взором Смерти, этого вечного стража наших земных усилий, мы приучены жить, – а великую и нескончаемую жизнь природы ощущает как предвечный Эрос, вернее сказать, как изначальную, солнечную и снежную Агапе.
Смертная пустота, тёмная глушь, пронизанная далёкими рыданьями уже ушедших – мы можем их лишь помянуть в молитвах своих да рюмку в годину поднять, – всего лишь повод для тотального объятия, даруемого всем и Всему:
Весной деревья ходят по земле,
по сквознякам болезным, льющимся дорогам.
Они, наверно, поцелованные Богом,
растут в небесье-птичьем – медленном крыле.
Когда падут, когда сраженье призовёт
ветвями тонкими вонзиться в мирозданье,
всех вас почувствую, услышу по рыданьям —
из всей глуши, из всех губительных пустот.
Смена времён года. Шелест листвы. Аромат цветов. Журчанье безостановочно текущей реки. Вереница дел насущных, крепко привязывающая человека к земле. Вереница трагедий, нас от земли отвязывающая, чтобы мы, с лицами, слезами залитыми, подняли очи наши к небесам, поняли крепчайшую связь живых и тех, кто уже в земле. Людмила Банцерова слишком близко живёт к земле – она плоть от плоти и кровь от крови родной земли, и её жизнь, что кажется лишь травинкой на холодном осеннем ветру близ крестьянского дома, в стихах неизъяснимо преображается, и это подлинная метанойя, это настоящее посвящение, дарение себя Господу и судьбе.
Но не подавляет у Людмилы изображение подлунного Мiра контрапунктная тема Бога, не ставится на Божественном ортодоксальный акцент, и тем более не эксплуатируется религиозный мотив сентиментально и умилённо. Душа живая прекрасно помнит завет Нагорной проповеди: «Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное… Блажени плачущии, яко тии утешатся». И высшее роскошество поэта – свобода. И высшее наслаждение – дощатая бедная, старая лодка.
Людмила Банцерова на ощупь ощущает мистику преображения. «Не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (апостол Павел, Первое послание к коринфянам). Смятение, волнение, сомненье, страсть – все они предполагают, что тот, кто их испытывает, имеет возможность родиться заново, шагнуть в пропасть-бездну главного мифа Земли – мифа об умирающем и воскресающем Боге.
А человек? Может он умереть и воскреснуть?
Господь Своею смертью на Кресте сказал нам всем об этом.
И Людмила шлёт свою любовь не только природе, полной чудес, но и Времени: она видит давно прошедшие дни, и она глядится в зерцало будущего.
А там, там – снова берег, который надо покинуть, с которым попрощаться надо… там нежный плеск родной волны, там твой шаг становится невесомым, ибо в солнце, под солнцем ты идёшь, облитая, пропитанная, как хлеб вином, его лучами, и это твой единственный свет, это твоя единственная любовь, это твоя единственная жизнь.
Весною ранней чьи-то губы целовать,
роскошествовать вволю, не найдя начала.
Душою тонкой оттолкнуться от причала,
в дощатой лодке плыть – вот благодать!
…И вот ведь, Господи, такого воздуха нагнать —
такого, может, первородного смятенья
и скорого на целый шаг перерожденья,
и всё в зеркальном облике зарифмовать.
Так велено теплу, и я пока что здесь,