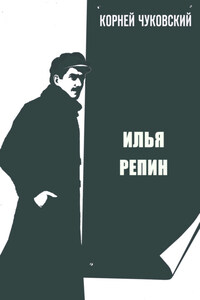Нет, нет, дорогой читатель (а не дорогих читателей в век интернета нет, ведь так?), автор не займет твое внимание надолго. Он лишь напомнит, о чем рассказано в предшествующей книге «Танкист Мордора». В 1986 году курсант танкового училища Сергей Попов чужой волей был переброшен в 1697 год Второй Эпохи Средиземья и вынужден принять участие в войне против эльфов Эриадора на стороне Мордора.
Далеко не всем читателям понравилось, что главный герой повел себя в Мордоре, скажем так, не совсем героически. Кто-то даже называл Сережу подонком. Принимая критику, автор в ответ хотел лишь заметить, что главный персонаж не более чем обычный человек, попавший в очень необычные условия. Рискну предположить, что кто-то узнал в Попове себя. Соглашусь, что узнавание не самое приятное, но что делать, раз уж большинство из нас способно действовать лишь в рамках возможного.
И все же считать главного героя законченным трусом и приспособленцем, наверное, нельзя. В конце концов на решительный поступок он оказался способен. Правда, результат этого поступка оказался для него крайне неожиданным, и шесть лет Попов провел в закрытом спецучреждении, из которого и вышел после распада СССР. Двадцать первого апреля одна тысяча девятьсот девяносто второго года. Во вторник. В шестнадцать часов сорок минут…
Облезлая железная калитка заскрипела, застонала ржавыми петлями. Попов остановился, обреченно глядя на открывшийся прямоугольник, и не решаясь шагнуть наружу. Старый санитар ободряющее похлопал Серегу по спине, одновременно подталкивая в калитку:
– Не боись, Владимирыч, свободы-то. Живут же как-то люди. Домой поедешь, мать-то заждалась.
Шаг через порог потребовал не меньшего усилия, чем когда-то соединение колец. Улица встретила весенним солнцем и голубыми с ледком лужами в разбитом асфальте. Попов поежился на холодном апрельском ветерке – старую курсантскую шинель со споротыми погонами прохватывало насквозь. В глухом больничном дворе ветра никогда не было, он лишь свистел где-то далеко наверху, гремя оторвавшимся краем кровельного листа.
Серега обернулся:
– Прощай, дядя Миша.
Санитар вдруг нашел соринку в глазу, согнал ее пальцем в угол века:
– Чей-то пыль с улицы несет. Прощевай, Владимирыч. Дай-то Бог, если и свидимся, то не здеся. Ох-ты, моченьки, забыл совсем! На-ка, я-то тебе гостинец собрал на дорожку. Конфетки тут, леденчики. Держи.
– Дядя Миша, – развел руками Попов, – мне двадцать четвертый годик стукнул. Я бы уже старлеем был. Оставь внучатам.
– Держи, держи, – засуетился санитар, – внучатам-то я отдельно приберег. В поезде-то поедешь, с чайком побалуешься, и сахар-то не нужен.
Серега сунул маленький газетный сверток в карман шинели. Калитка снова взвизгнула и с лязгом захлопнулась, отрезав бывшего пациента от странного, а иногда и страшного мира специальной психиатрической лечебницы. Закрытого, со своими законами, но уже привычного. Здесь бывший капитан Мордора прожил шесть долгих лет, не надеясь уже выйти на свободу. Письма от матери – вот все, что связывало Попова с миром внешним.
Режим содержания для бывшего курсанта был установлен в точном соответствии с распоряжениями «куратора». Сильнодействующими лекарствами Попова не терзали, но и выход за пределы учреждения был закрыт. Серега так отвык от обычной жизни, что сонная улочка на самой окраине города ошеломила звуками, запахами и красками. Пришлось даже постоять, вдыхая аромат весны и привыкая к движению автомобилей и людей.
До вокзала решил идти пешком. Благо, улочка выводила на перекресток, от которого путь был прямой, хоть и долгий. Два часа неторопливой ходьбы позволяли вернуться в обычный мир. Мир прохожих, спешащих куда-то. Мир отдыхающих с пивом на скамейках, и стоящих на автобусных остановках. Мир озабоченно бегущих куда-то бродячих собак, и сонно щурящихся на солнце котов. Мир серых воробьиных стаек и наглых голубей, шныряющих прямо под ногами.
Этот мир не обращал внимания на Попова. Равнодушно скользил глазами по стоптанным сапогам и старой шинели. Другой одежды у Сереги не было. В чем привезли в приемник «специализированного лечебного учреждения», в том и вышел. Денег тоже не было. Государство обеспечило плацкартным билетом. Главный врач, по доброте душевной, дал десятку1 на еду и мелкие расходы.
Правда, была еще одна вещица сомнительной ценности. Подарок Майрона2. Честно говоря, Серега и не думал, что когда-нибудь вновь увидит железное колечко3. Но, утром, отдавая бывшему пациенту его нехитрые вещи, сестра-кастелянша выложила на стол и металлический ободок.
– А это откуда? – изумился Попов, с недоверием ощупывая вещественное доказательство своего путешествия.
– От верблюда, – не любезно буркнула женщина, – что в описи обозначено, то и выдаю. Не нужно – выброси. Вот урна.
– А золотого не было? Эльфийского4?
Санитарка с подозрением посмотрела на Серегу:
– А ты точно выздоровел? Может зря одежду получаешь – через пару дней обратно вернешься?
– Не вернусь, – твердо ответил Попов, пряча кольцо. Сунул в карман, и забыл. Вспомнил вдруг, уже выходя на привокзальную площадь. Кольцо словно просилось на палец и Попов вытащил железный ободок. Покрутил в руках. Когда-то гладкую поверхность теперь покрывали черные каверны ржавчины, однако, кольцо показалось ему очень красивым. Никогда не носил украшений, но все же решил примерить подарок иного мира.