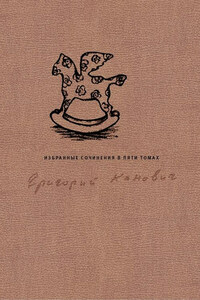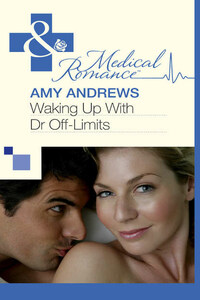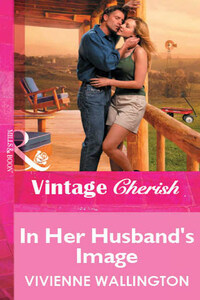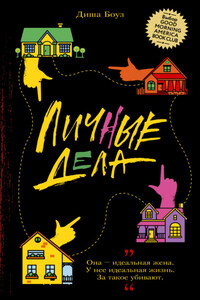Памяти актеров и сотрудников театра Вильнюсского гетто
Господи, каким я был в ту пору счастливым и беспечным! Город еще лежал в страшных руинах, его каменные мостовые, по которым когда-то величаво цокали копытами холеные кони князя Витаутаса, остывали от пламени пожаров; вечный скиталец – ветер ворошил пепел сожженных дотла домов на осиротевших улицах и обвевал по всей Литве прах моих семнадцатилетних сверстников, убитых под родным небом. Роковые, оглушенные траурным вороньим карканьем ямы, лысые овраги медленно и тяжко зарастали застенчивой послевоенной травой.
Но я в ту пору был до неприличия беспечен и счастлив.
Мы с мамой только что вернулись с Урала, из задымленного, запорошенного угольной пылью поселка Еманжелинские Копи, где жили чумазые, усталые и вечно понурые шахтеры и их жены, такие же усталые и хмурые, в тяжелых кирзовых сапогах или в валенках, в стеганках и надвинутых на лоб ушанках, из-под которых полевыми васильками поблескивали озорные глаза.
Еманжелинские Копи приютили не один эшелон беженцев. Были среди них и эвакуированные из Прибалтики, в основном молодые еврейки с малолетними детьми и престарелыми родителями, тихо и безропотно томившиеся от разлуки с отчими краями, страдавшие от чужого пьянства, от неумолимой стужи и от дурных новостей, день-деньской обрушивавшихся на их головы из репродукторов, ставших для всех чуть не гласом Всевышнего.
Возвращение в Литву, пусть и обагренную кровью, пусть и в ожогах, было для нас с мамой долгожданным и горьким счастьем.
– Человек должен жить там, где живут его мертвые, – говорила мама, и я съеживался от ее слов. Разве мертвые живут? И если даже живут, то не все ли равно где – на Урале, в Литве или в Америке.
Тогда, еще в далеких и выстуженных суровыми зимами Еманжелинских Копях, ни я, ни мама знать не знали и ведать не ведали, что в Литве у нас не осталось ни родного дома, ни родных могил.
Да мало ли о чем я в те далекие годы не знал и не ведал. Может, потому и был таким бесстыдно счастливым и беспечным.
Я расхаживал по городу в поношенных ботинках на грубой, зачерствелой подошве, в сшитых из военного сукна штанах и багровом свитере, на котором красовались доставшиеся мне без всяких на то заслуг значки «ГТО» («Готов к труду и обороне») и «Ворошиловский стрелок», хотя ни к труду, ни к стрельбе, ни к обороне я не был готов. Тем не менее, я страшно гордился своими значками, и когда встречал какую-нибудь смазливую девчонку, то обязательно выпячивал отмеченную грудь и взбивал, как подушку, свою иссиня-черную шевелюру.
Каюсь, каюсь – на них, на этих тонконогих, бледнолицых, оттаявших после войны от испуга девчонок я поглядывал куда чаще, чем на торчащие то тут, то там развалины, и мои юношеские думы вертелись не вокруг оврагов в Панеряй, не вокруг убитых родственников, а вокруг такой чепухи, как воскресные танцульки под какую-нибудь мелодию из трофейных фильмов «Серенада Солнечной долины» или «Девушка моей мечты» с обольстительной Марикой Рокк, снившейся мне и моим однокашникам. О, Марика Рокк! Дух захватывало от этого имени – при одном его упоминании вскипала молодая кровь и в ней начинали колобродить первые, еще смутные, но упрямо требовавшие удовлетворения мужские страсти.
– Что это ты каждое воскресенье на танцульки повадился? – ворчала мама. – Лучше бы какие-нибудь книжки читал. Вон их сколько во дворе валяется и под дождем мокнет!
– По-польски я ни бэ, ни мэ. А они все по-польски… Говорят, из библиотеки этого пана… Моравского. Это въехавший в его квартиру русский полковник выбросил их на свалку…
– Никуда ты больше не пойдешь, – предупреждала меня мама. – Тебе что дороже – моя жизнь или фокстрот с какой-нибудь девчонкой?
Конечно, ее жизнь была мне дороже, чем фокстрот с девчонкой. Хотя и фокстрот, и танго, и вальс-бостон, по правде говоря, тоже были дороги. И жизнью своей я дорожил, хотя в молодости цены ей не знаешь – кажется, она дана тебе навеки и никогда не кончится…
– Ты что – не слышал, что в городе еще постреливают… Особенно в Старом… На Большой, на Конской, на Рудницкой, возле гостиницы «Астория» – как раз там, куда ты ходишь.
Меня и впрямь тянуло на Конскую, на ту короткую, как вздох улицу; в тот затемненный дворик с увитыми плющом беседками, куда мы, безусые юнцы, выходили покурить и посудачить о своих подружках; в тесный, битком набитый зал клуба Наркомата внутренних дел, где каждое воскресенье играл эстрадный оркестр, состоявший почти из одних евреев и аккордеониста-литовца, похожего на голливудского актера Грегори Пека, и кружились до поздней ночи истосковавшиеся по любви и близости пары в своих лучших довоенных нарядах.
Сверкали белые платьица с оборками.
Шуршали по надраенному, как палуба, полу туфельки заграничного и отечественного производства.
От купленных по дешевке на барахолке выходных пиджаков веяло временами бескровных раздоров – маршала Ридз-Смиглы и бежавшего из Литвы от большевиков президента Сметоны.
Офицерские галифе, похожие на перевернутые колбы, соседствовали с вполне миролюбивыми штатскими штанами, сшитыми по-стахановски на литовских швейных фабриках.