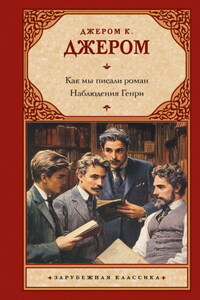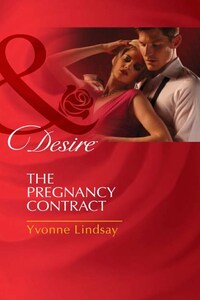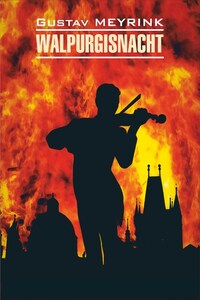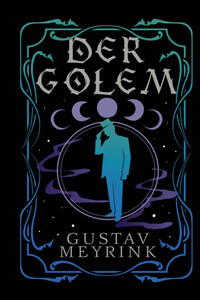Глава первая
Актер Зрцадло
За окном взлаял пес.
Раз и еще.
Потом настороженно умолк, будто вслушиваясь в ночь и пытаясь учуять, какими она чревата событиями.
– Мне кажется, это всполошился Брок, – сказал старый барон Константин Эльзенвангер, – надо полагать, сейчас пожалует господин гофрат.
– Тем паче нет резону брехать, – строго заметила графиня Заградка – старуха с белоснежными буклями, орлиным носом и кустистыми бровями, осенявшими черные, как тихие омуты, глаза, – словно ее покоробило дерзкое нарушение приличий. Она начала еще проворнее тасовать колоду для игры в вист, хотя уже полчаса только этим и занималась.
– А что, собственно, он делает весь божий день? – полюбопытствовал императорский лейб-медик Тадеуш Флюгбайль. Умное, гладко выбритое лицо в глубоких морщинах и старомодное кружевное жабо – этого господина можно было принять за призрак давно опочившего предка, который примостился напротив графини в кресле с подголовником, подтянув свои бесконечные тощие ноги так, что колени чуть ли не упирались в подбородок.
Здесь, на Градчанах, студенты окрестили его Пингвином и провожали неудержимым хохотом всякий раз, когда ровно в полдень он усаживался у ворот замка в крытые дрожки, с которыми кучеру приходилось изрядно повозиться, приподнимая и вновь закрепляя верх экипажа, чтобы в нем могла поместиться почти двухметровая фигура Флюгбайля. Столь же канительная операция проделывалась через несколько минут пути, когда седоку предстояло ступить на тротуар перед дверями трактира «У Шнелля», где господин лейб-медик имел обыкновение поедать второй завтрак, рывками сгибаясь над столом и по-птичьи склевывая горячие куски.
– Кого ты имеешь в виду? – спросил барон Эльзенвангер. – Брока или гофрата?
– Разумеется, господина гофрата. Чем он занят весь день?
– Небось играет с детьми в Хотковых садах.
– С детями, – поправил Пингвин.
– Нет! Он-играется-с-детьми, – вмешалась графиня, раздельно и со значением отчеканив каждое слово домотканого немецкого языка градчанской аристократии.
Смущенные старики молчали.
В парке вновь залаял пес, вернее, теперь уже глухо взвыл. И тут же открылась темная, красного дерева дверь с живописным изображением пастушков и пастушек, и в комнату вошел гофрат Каспар фон Ширндинг, как обычно поспешая в урочный час сыграть в вист с гостями городского замка барона Эльзенвангера.
С быстротой горностая и не вымолвив ни слова, он подбежал к креслу, бросил на ковер свой цилиндр и церемонно поднес к губам руку графини.
– И что это он нынче так разошелся? – задумчиво пробормотал Пингвин.
– На сей раз он имеет в виду Брока, – пояснила графиня Заградка, рассеянно взглянув на Эльзенвангера.
– Господин гофрат просто упарился. Смотрите у меня, не простудитесь! – с озабоченным видом воскликнул барон и вдруг по-петушиному, но с фиоритурами оперного певца крикнул в сторону смежной комнаты, где, как по мановению волшебной палочки, тут же зажегся свет: – Божена! Божена! Бо-жена-а! Будь любезна, supperläh![1]
Все проследовали в столовую и сели за большой обеденный стол. Только Пингвин, гордо выпрямившись, будто трость проглотил, прохаживался вдоль стен и восхищенно, словно впервые видя, разглядывал на гобеленах сцены поединка Давида и Голиафа и рукой знатока поглаживал роскошную гнутую мебель времен Марии-Терезии.
– А я был в низах, в Праге! – выпалил гофрат фон Ширндинг, прикладывая ко лбу аршинный носовой платок в красно-желтую крапинку. – И не преминул постричься.
Он сунул палец за воротник, как бы почесывая шею.
Эту новость как свидетельство неукротимо буйного роста волос он обыкновенно сообщал раз в четыре месяца – будто никому не было известно, что он носил парики, попеременно с длинным и коротким волосом, – и всегда в подобных случаях слышал изумленный шепоток. Но на этот раз – никакого почтения: всех шокировало упоминание места, где он побывал.
– Что-что? В низах? В Праге? Вы? – остолбенев, ужаснулся лейб-медик Флюгбайль.
– Вы? – не веря ушам своим, вторили барон и графиня. – Там? В Праге?
– Так… надо ж было… мост… перейти! – обретая дар речи, но запинаясь, произнесла графиня. – А кабы он рухнул?!
– Рухнул!! Помилуйте, сударыня! Не приведи Господь! – хрипло запричитал барон. – Чур меня! Чур!
Он подошел к каминной нише, перед которой еще с зимней поры лежало полено, трижды сплюнул и бросил его в холодный камин.
Божена, служанка, в драном халате, косынке и с босыми ногами – как это заведено в старых патрицианских домах Праги, – появилась с великолепным тяжелым блюдом из чеканного серебра.
– Ага, бульон с колбасками! – пробормотала себе под нос графиня и с довольным видом опустила лорнет. Пальцы служанки в великоватых для нее лайковых перчатках едва не омывались бульоном, и старуха приняла их за колбаски.
– Я ездил на трамвае, – задыхаясь, доложил гофрат, все еще взволнованный пережитым приключением.