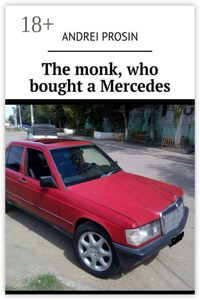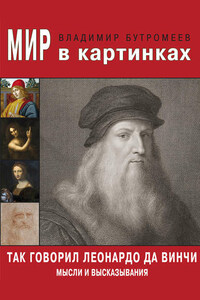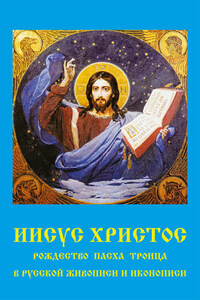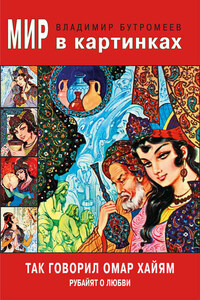I
Волны вечно немолчного моря
Россия слиняла в три дня (в два, самое большое – в три), а СССР – в один день. Что означает слово «слинять»? Слинять – значит «потерять свою окраску», «поблекнуть», «сменить кожу», «пропасть, быть украдену», «сбежать», «уйти», «уехать». А также «отказаться от своих убеждений, мировоззрения». Как это произошло? Почему? И со мной ли?
Непонятное, непостижимое, но хорошо известное в своих обычных проявлениях таинство, которое привычно называют словом «жизнь», продолжало твориться вокруг меня, со мной и внутри меня, и я знал, что оно продолжится и после меня.
И то, что я знал это, ничего не меняло и не могло изменить, как ничего не изменило то, что об этом когда-то знал Толстой и даже много написал об этом, то и дело отвлекаясь от попытки понять и описать это нечто непонятное, но, несомненно, главное; потому-то и главное, что его трудно, а может, и невозможно понять, и он – Толстой – отвлекался на описание разных мелочей вроде движения огромного количества людей с запада на восток, а потом с востока на запад, что, конечно же, не так важно в сравнении с развертыванием весной на деревьях клейких зеленых листочков и что восхищало, но и пугало, и завораживало не только одного Толстого.
Неотвратим страх, сам собой возникающий от осознания своего существования, осознания присутствия в этом мире.
Страха не было первые пять-шесть лет, не было и почти лет до двадцати двух – двадцати трех, даже до двадцати пяти. Но потом он стал чуть ли не самым главным в жизни, потому что жизнь моя сама собой складывалась так, что возникало ее, жизни, осознание, и осознание порождало страх. Страх, доходящий до границ ужаса, за которым уже теряется всякое осознание.
Зачем я?
Зачем я здесь, среди людей?
Тысячу раз верно, что нужно заслониться хоть чем-то от ужаса осознания собственного бытия в этом мире. Заслониться от этой жизни.
Но я не один. Людей много, и они копошатся, как муравьи в муравейнике. И заняты чем-то, имеющим для них смысл, и только все вместе они бессмысленны, потому что им неведомо, что они делают все вместе, и каждый из них знает и понимает только то, что и зачем делает именно он и именно сейчас.
Когда я говорю «все», я имею в виду всех, кроме сумасшедших, которые бродят среди людей, и кроме тех сумасшедших, которых держат в больничных палатах. Сумасшедшие конечно же опасны, но не настолько, чтобы устроить, например, Первую мировую войну или Вторую мировую войну, или морить голодом миллионы людей, или забивать их, безропотных и беззащитных, мотыгами. Вся опасность, исходящая от этих сумасшедших, заключается лишь в том, что на вопрос: «Который час?» они отвечают: «Вечность» и неотрывно смотрят на луну, вместо того чтобы внимательнее следить за стрелками часов на циферблатах – особых пластинках: круглых и прямоугольных со значками, которыми индусы изображали отсутствие чего-либо, то есть обозначали ничто.
Хотя сумасшедшие не так уж и безопасны и могут полоснуть бритвой по горлу человека, особенно если они долго и неотвязно ходят следом за ним.
Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Но зачем презирать себе подобных в этом муравейнике? И каждый в отдельности, и все вместе они не по своей воле и не по своему желанию оказались в этом мире. Ни каждый в отдельности, ни все вместе они не просились сюда. И дней темноты было больше, ровно столько, сколько будет потом.
И каждый в отдельности, и все вместе они нелепы, но зачем же их презирать; конечно, они достойны презрения, но ведь можно не презирать, а просто посочувствовать бессмысленности их копошения в этом муравейнике, бессмысленности всех и каждого в отдельности, независимо от того, в каких они шляпах и придерживают ли рукой шляпу, чтобы ее не сорвал ветер, или не придерживают, беспечно не задумываясь о том, что может подуть великий ветер.
Вот один из них, один из нас, по имени Кикилион. У него такое имя, потому что он древний грек и жил в Древней Греции в глубокой древности, в глубине веков, а век – это ровно сто лет, если их аккуратно считать год за годом, не пропуская ни одного и не сбиваясь, считать по десять, то есть по числу пальцев на руках.
Кикилион стоит на берегу и считает волны вечно немолчного, винно-зеленого моря. Волны одна за другой набегают на берег, и нужно быть внимательным, чтобы не пропустить ни одну из них, успевая причислить каждую к тем, которые катились пред ней. Потому что, если пропустишь хотя бы одну волну, она исчезает на песке и набегает следующая, и от той, которая исчезла неучтенной, не остается и следа, и весь счет может оказаться неточным.