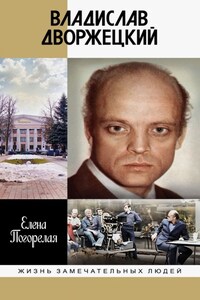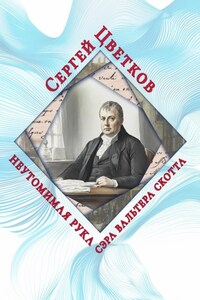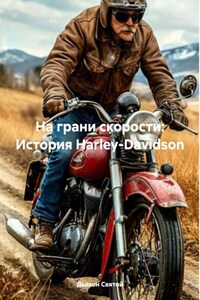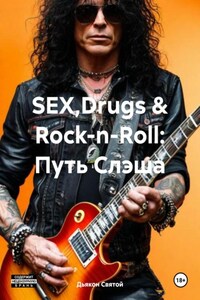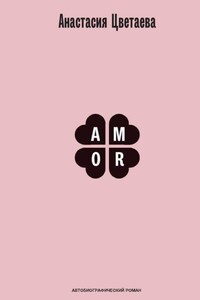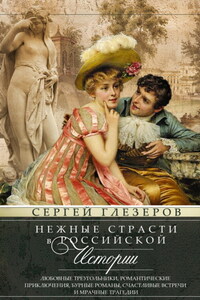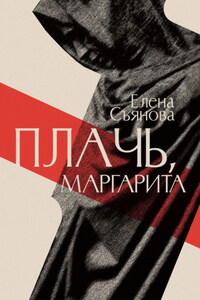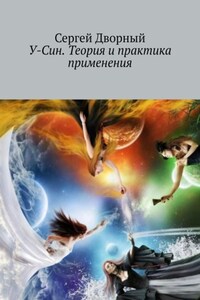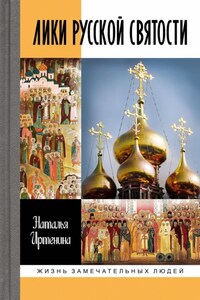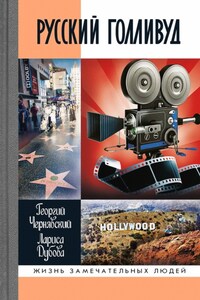Не зови меня чужим человеком, просил полярный исследователь Ильин черноглазую дикарку Аннуир из племени онкилонов, а та отзывалась послушно: «Хорошо, чужой человек!» Эта щемящая сцена из кинофильма «Земля Санникова» была, разумеется, сделана не под Дворжецкого: первоначально никто и не думал, что в фильме начинающих режиссеров Л. Попова и А. Мкртчяна будут сниматься такие звезды, как О. Даль, В. Дворжецкий, Г. Вицин, – но удивительно точно вписывается в образ того, кто вошел в историю советского кинематографа едва ли не как самый загадочный и необъяснимый актер.
Он начал работать на излете эпохи свободных и окрыленных 1960-х – и одновременно в самом начале глухого «застойного» десятилетия, когда пробудившуюся было деятельную творческую рефлексию вновь попытались загнать под идеологический козырек.
Он смог прославиться несколькими небывало яркими ролями, которые и сегодня опознаются как вершины актерского искусства, однако бóльшая часть того, что им сыграно, ушла на дно вместе с советской кинематографической Атлантидой 1970-х годов.
Он, чье лицо узнавали во всех городах Советского Союза – от Ялты до Новокузнецка, – не раз и не два готов был все бросить, оставив экран, и либо засесть за пишущую машинку, либо и вовсе уйти в геологи – «за туманом и за запахом тайги», как любили тогда говорить…
Одним словом, противоречивый герой противоречивого времени. Отчего же всё, что им было сделано на экране, воспринимается как пример редкой целостности натуры – актерской, творческой, человеческой?
Возможно, потому, что, по словам Н. Галаджевой (правда, обращенным не к Дворжецкому, а к его современнику и даже другу О. Далю, но верным для обоих), «он принадлежал к редкому типу актеров: рядом с каждым героем, им рожденным, постоянно присутствует один и тот же образ – образ его самого»[1]?..
Актеры из поколения Дворжецкого, уходящие сейчас друг за другом: в 2017 году – А. Баталов, в 2021-м – А. Мягков и В. Лановой, в 2022-м – Л. Куравлев… – владели тайной полного психологического перевоплощения. Играли тех, с чьими образами не соглашались, тех, над кем втайне или же откровенно иронизировали. Играли, абстрагировавшись от своего я.
Дворжецкий так никогда не умел. Любой его образ в кино – это, конечно, не объяснение себя самого (так думать было бы слишком по-дилетантски), но выражение некоей сокровенной идеи, от которой он внутренне так и не смог отделиться. От Хлудова в «Беге» до металлурга-чиновника в «Однокашниках», от пилота Бертона в «Солярисе» до физика Реннета во «Встрече на далеком меридиане», от Ильина в «Земле Санникова» до принца Даккара в «Капитане Немо» – перед нами творение одного мифа, ведение одного лейтмотива, приращение одного смысла, как можно было бы сказать на языке современной терминологии, если бы это выражение не было так откровенно скомпрометировано.
Но какой это миф, какой смысл, какой лейтмотив?
В 1973 году критик М. Туровская мельком обмолвилась об А. Тарковском: «Его герои стремятся через „тpaвмы“ и „стрессы“ не к житейскому покою, а к идеальной гармонии»[2]. Пожалуй, внутреннюю логику пути Дворжецкого, как известно, Тарковского боготворившего, можно обозначить именно так. Зная и чувствуя, что на свете есть образец идеальной гармонии (где бы он ни обретался – в историческом прошлом, в безоблачном детстве, в совершенном искусстве или же просто в мечтах), он стремится к ее достижению, которое раз за разом срывается.
Но это не значит, что попытки следует прекратить.
По сути, творческая история Дворжецкого, как и Тарковского, говорит нам о том, что человеку, однажды познавшему целостность мира, свойственно постоянно стремиться к ее возвращению и воплощению. А мир раскалывается, а человеческого усилия, чтобы восстановить его, не хватает… «Век расшатался – и скверней всего, / Что я рожден восстановить его», – произносит шекспировский Гамлет в переводе М. Лозинского, и эти слова становятся девизом целого поколения.
Эпоха оттепели – вполне себе гамлетовская эпоха. Неслучайно именно «Гамлет» оказался заветной мечтой Тарковского, также стремившегося отразить цельный мир в расколотом зеркале (сравните с говорящим названием книги воспоминаний его сестры М. Тарковской – «Осколки зеркала»; действительно, с этими осколками Тарковский и работал всю жизнь, из них и складывал слово «вечность»). «Я убежден», – высказывался Тарковский, —
что трагедия Гамлета, главная болевая точка этой трагедии, кроется <..> в необходимости для человека, стоящего на более высоком духовном уровне, погрузиться в мелкое болото серости, обыденной пошлости, мелких страстишек и властолюбивых амбиций, правящих в этом мире всецело и безнаказанно. Это трагедия человека, точно уже преодолевшего элементарное земное притяжение, но неожиданно вынужденного вновь с ним считаться, подчиниться его законам[3]…
То есть – трагедия цельного человека в расколотом мире.
Именно это и было внутренней, сокровенной «темой» Дворжецкого, лейтмотивом его игры – даже в тех фильмах, где, по сути, нечего было играть.