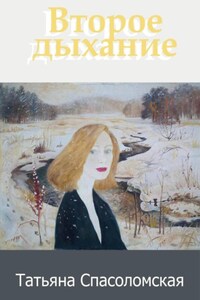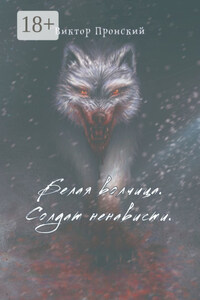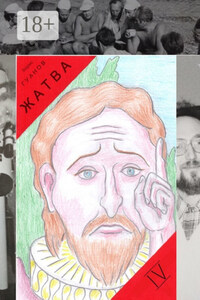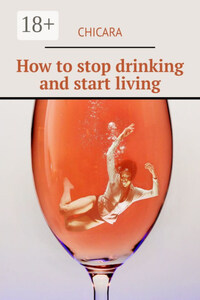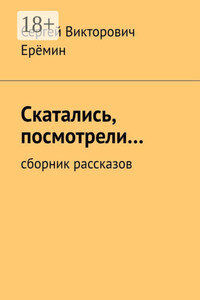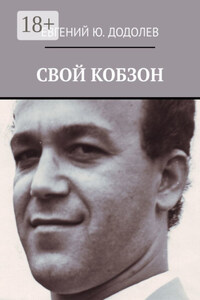11.11.24, Заветы, Подмосковье
Ноябрь всегда серый, и потому приятно сидеть за письменным столом в загородном доме и ждать, когда в очередной раз ляжет снег и наступит зима.
Каждое событие мгновенно переходит в прошлое, и надо зацепить петельку настоящего, продернуть в нее ниточку, и так, петельку за петелькой, превратить нить событий в полотно.
Сейчас нет смысла описывать события конца недели и выходных. Каждый день получился как длинный рассказ с продолжением и множеством совпадений на расходящихся тропках сознания. Сейчас надо завершить книгу, то, что было написано за годы и собралось под названием «Второе дыхание».
Почему такое название, а, например, не «Девушка в красных чулках», как я сначала думала назвать свою первую книгу.
Почему я так думала?
Я могу долго вспоминать эпизоды из жизни и картины мастеров живописи, в которых фигурировали красные чулки.
Когда я преподавала сценографию в МАХУ (Щуке) я предлагала студентам такое задание: утром, по дороге на учебу, в электричке, метро, автобусе и на улице наблюдать за каким-то одним цветом, например, красным. О том, что из этого получалось, я расскажу в своей следующей книге про театр и режиссеров.
А с чулками было так.
В 1950 годы, когда я родилась, у детей много чего не было, а когда страна стала дружить с Китаем, кое-что появилось, то, чего не было – яркие шерстяные кофточки, китайский флис-ватин и полосатый штапель. Конечно, и наших тканей было полно: прекрасных жоржетов, крепдешинов, чесучи, габардинов и атласов…но чулки носили на детском лифчике с резинками.
И вот появились китайские колготы, бежевые и разноцветные.
Дальше со мной было так.
Родители работали, мама шила дома на заказ, и я была предоставлена самой себе; меня сажали на стульчик, иногда привязывали платком. Сидеть просто так было не интересно, и я начинала мастерить себе куколку: ножницы были рядом, я оттягивала чулок на коленке и прорезала дырочку в нем, на коленке, и рисовала личико, слюнявя цветные карандаши. Потом приспосабливала платочек и юбочку, и в самый момент апофеоза приходила мама, с розгой наготове, так как очередная пара дорогущих чулок была испорчена.
Я четко помню именно саму страсть, и удовольствие прорезания.
И так будет называться моя вторая книга воспоминаний: «Девушка в красных чулках».
Теперь я хочу поблагодарить тех, кто помогал мне в подготовке выхода этой книги в свет:
• Гурам Кочи, издатель и редактор;
• Лев Щенин, многопрофильный специалист по компьютерам;
• Павел Дейнека, историк и реставратор, философ, краевед и летописец;
• Катя Орлова, превратившаяся из бухгалтера в художника-керамиста и руководителя детской студии;
• Вера Елисеева, психолог и сотрудник библиотеки;
• Людмила Синицына, писательница, журналистка, сценаристка, фотограф, получившая множество призов, в том числе международных, и званий за свои работы; состоящая в Союзах писателей Москвы и журналистов России;
• Лаврентий Кирсанов, ученик 9 класса средней школы и начинающий специалист в области «Пойти Туда, Не Знаю Куда».
Вдохновляли меня больше всего сценографы, многие из моих старших коллег, с кем рядом я творила, участвовала в выставках.
От них я получила живую инспирацию российских и европейских театральных и живописных школ 19,20 и 21 веков и всего огромного, многомерного пространства культуры, со-творцами которого были и они.
Невозможно перечислить всех, но хочется, чтобы и вы знали, хотя бы некоторых из них:
Михаил Михайлович Курилко,
Татьяна Ильинична Сельвинская,
Олег Шейнис, Эдуард Кочергин, Сергей Бархин, Владимир Серебровский, Давид Боровский, Станислав Бенедиктов, Дмитрий Крымов, Борис Мессерер.
![]()
Кто не знает эти подмосковные пруды? А представьте себе – конец июня, жара летняя и теплые туманные ночи. В ивах щелкают какие-то мелкие птицы, и шлепает рыба перед рассветом… Эти ночи короткие! И как необыкновенно приятно сидеть на чуть влажной вечерней веранде старинного дома, за огромным семейным столом, под дачным абажуром, в необычайно торжественный день – мы получили дипломы художников Института имени Сурикова!
Застолье в разгаре. Компания за столом уже не раз опрокинула бокалы за талант, за дружбу, за театр. Вот тост и за учителя, мастера курса Мих Миха, как ласково его называли в кругу студентов. И все мы собрались на даче за его семейным столом – нас приняли в члены большой театральной семьи.
И вершиной праздника стал момент весьма таинственный и интимный. По узкой тропе, известной только хозяину, по камушкам, среди высокой, мокрой, росистой, разноцветной, благоухающей травы и кваканья потревоженных лягв, длинной вереницей мы вышли к прудам. Белое молоко тумана растворило нас, и разойдясь цепочкой по берегу, каждый погрузился в свой кусочек прохладной ночной воды. Было, конечно, шумно, но вспоминается это как