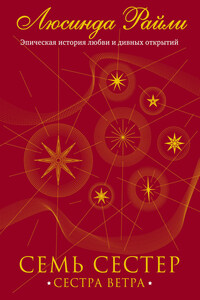«Так это и есть, значит, лицо мстителя!» – сказал я себе, когда в то самое утро, прежде чем отправиться в путь, глядел на себя в зеркало. Эта фраза вышла у меня совершенно беззвучно, однако же я ее четко артикулировал; я шевелил губами, выговаривая ее, исключительно четко шевелил, как будто считывал ее с моего зеркала, чтобы заучить наизусть раз и навсегда.
Подобного рода разговоры с самим собой, которые я, впрочем, так или иначе – и началось это далеко не в последние годы – иногда дни напролет вел в одиночестве, я в этот момент ощутил как нечто уникальное, только мое личное да и вообще неслыханное, в любом смысле.
Так говорило и появлялось существо человеческое, которое собиралось после долгих лет колебаний, отсрочек, а порой и забвения выйти из дома и осуществить наконец свою месть; давно пора было, пусть, может быть, на свой страх и риск, однако же, как ни крути, в интересах мира и во имя мирового закона или заодно просто – почему «просто?» – дабы припугнуть и, следовательно, разбудить общественность. Какую? Да как раз ту самую.
Вот что странно: пока я разглядывал себя в зеркале, «мстителя» в образе воплощенного покоя и высшей инстанции над всеми остальными инстанциями, – с час прямо-таки изучал, особенно оба моих глаза, у которых ни единая ресница не дрогнула, – мне разом стало тяжело на сердце, до боли, и меня погнало прочь от зеркала, прочь из дома, за калитку.
Эти мои привычные разговоры с самим собой бывали всякий раз многословны, однако при этом не только беззвучны, но иногда и совершенно бессодержательны и для других – как мне казалось – незаметны. Либо я выкрикивал их из себя, один в доме и вместе с тем – опять же, в моем воображении – один в открытом поле, от радости, от злости, как правило, без слов, один только крик, внезапный вопль. Как мститель, однако, я теперь открывал, округлял, распяливал, растягивал рот, распахивал его, оставаясь немым, следуя четкому, давно сформировавшемуся, не мной лично придуманному ритуалу, который со временем превратился в определенную ритмику перед зеркалом. Сперва появился ритм, из него теперь образовались звуки. Из меня, мстителя, исторглось пение, монотонное гудение, незамысловатая мелодия, без слов, угрожающая. От этого сердце и заболело.
«Хватит петь!» – крикнул я своему отражению. И оно тут же послушалось и прекратило свое вытье, но сердце заныло вдвое горше. Потому что теперь назад дороги нет. «Наконец-то!» (Опять крик).
Вперед, мститель, отправляйся в свой поход, один, единолично. Первый раз, лет десять назад, я утром принимал ванну – обычно-то я просто мылся под душем, – влез затем, одна нога за другой и одна рука за другой, как положено, в темно-серый, заранее аккуратно разложенный на кровати, вместе с собственноручно поглаженной белой рубашкой, костюм от «Диор». У рубашки на поясе справа вышита жирно-черная бабочка, которую я оставил на виду на палец над ремнем. Дорожную сумку, которая сама по себе тяжелее, чем ее содержимое, забросил на плечо и пошел из дома, не заперев двери, по старой привычке не запирать дом, даже если отлучался надолго.
Между тем я всего три дня назад вернулся в мое родное предместье к юго-западу от Парижа после нескольких недель бродяжничества в северной глубинке. И впервые меня потянуло домой, меня, который, после того как безвременно окончилось, чтобы не сказать резко оборвалось, мое детство, страшился любого возвращения домой или, того хуже, – на место своего рождения (да что там, замирал от ужаса – сжатие в теле вплоть до самой последней кишки со всеми отростками) – особенно возвращения туда.
И в эти два-три дня после моего позднего, но все-таки впервые в жизни не «счастливого» (держись от меня подальше, такое счастье!), скорее даже гармоничного возвращения домой я как-то прочно осознал, что вот я на своем месте, раз и навсегда. Ничто больше не поставит под сомнение мою принадлежность и привязанность к этому месту. Это была радость этому месту, неуклонная, растущая днем (и ночью) радость, и она, не то что почти три десятилетия назад, не ограничивалась домом и садом, не зависела никоим образом ни от того ни от другого, я просто радовался этому месту. «В какой степени месту? Месту в целом? Или месту особенно?» – «Этому месту».
Моей нежданной месторадости, а впоследствии чуть ли не местоблагоговению (или, если угодно, моему запоздалому местечковому патриотизму, который обычно свойствен как раз детям) способствовало еще и то, что в этой местности именно теперь объявлены были каникулы, одни из многочисленных, с годами умножившихся, и не только во Франции, это были не такие длинные, как летом, это были пасхальные каникулы, продленные именно в тот сомнительный год, когда свершилась история моей мести, поскольку от них перекинули мостик еще до первого мая.
Так отлучки, вроде моей последней, пошли на пользу этому моему месточувству, день ото дня растущему, а в решающие моменты и вовсе безграничному. Дни напролет никакого собачьего рычания за живой изгородью, при котором моя рука, писала ли она в это время слова или цифры (чек или налоговую декларацию), начинала скакать по бумаге и черкала вкривь и вкось по бумаге полосы, да еще какой толщины! Будь то чек или что угодно другое. Если и лаяла теперь собака, то где-то далеко, как по вечерам в деревне, и от этого лишь возрастали ощущение пространства и чувство дома или предвкушение возвращения домой.