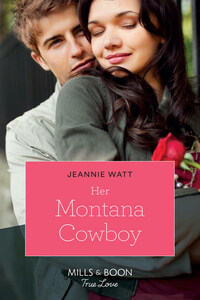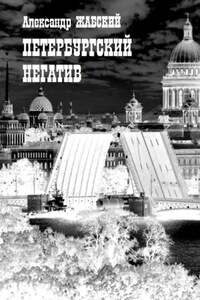У меня есть странная привычка. Я понимаю, что она странная, если смотреть со стороны, хотя если изнутри меня – вовсе не странная, а очень полезная. Я не выбрасываю ни клочка писчей бумаги. Если осталась половина листа, делю её надвое, на четвертушки, если меньше – выкраиваю одну четвертушку. Эти четвертушки я складываю в стопку и использую их для пометок, составления списка покупок, записи номеров телефонов, номеров поездов и времени их прибытия и иной информации, если мне звонят и надо что-то записать для памяти. Стопка четвертушек, нижние из которых уже немного пожелтели, так как востребованы нечасто, лежит на моём секретере, рядом – ручка, так что я всегда во всеоружии.
Я думал всю жизнь (а странная привычка завелась у меня с незапамятных времён, чуть ли не с детства, со школьных лет уж точно, только тогда я сберегал не белые листы для принтеров, на которых все пишут сейчас, а тетрадные; четвертушки выходили поменьше, но служили своей цели исправно), что эта странность присуща только мне. Но однажды, сравнительно недавно, лет 15 назад (с возрастом время сжимается, как расстояние – по мере технического прогресса), случайно прочитал, что точно такую же странную для окружающих привычку имел Лев Толстой. Ну, если нас таких уже двое с Толстым, то это привычка не то чтобы странная, а скорее, редкая. Хотя я ведь не знаю интимные отношения остальных пишущих с инструментами письма – может она и не редкая вовсе, а просто не слишком распространённая (как и сама пишущая часть человечества).
Всё это я рассказываю только для того, чтобы поведать о ещё более странной привычке, свойственной моему знакомому Андрею Большакову. Он не может заставить себя выбросить ни один магазинный чек! Я не раз наблюдал, как он мучается, если это всё же приходится делать, когда чек оказывается измятым. Он долго не решается к нему прикоснуться, потом, переборов себя, мнёт ещё больше, а затем методично разрывает на микроскопические лоскутки – и только после этого выбрасывает бело-серую труху в мусорное ведро под раковиной на кухне. Ясное дело, это нелепо: у меня все чеки вечно помяты в карманах – если их, конечно, туда машинально сую, ибо вообще-то выбрасываю в магазине: мне ведь не перед кем отчитываться о расходах.
Андрею тоже не перед кем. Вернее, теоретически от него могли бы потребовать отчёта жена, но ей это и в голову не приходит, поскольку добытчик-то он, что очень и очень благоразумно. Тем не менее, выходя из магазина Андрей с особой тщательностью складывает полученный от кассирши чек, а дома первым делом бережно его извлекает, отрезает ножницами случайно измятые уголки, а затем аккуратно ставит стоймя в картонку, сделанную из молочной коробки давным-давно – я уж и молока такой марки сто лет в продаже не видел. На боковой стенке коробки висит шариковая ручка. Спросите, зачем? А с той же целью, что и моя лежит на секретере рядом со стопкой бумажных четвертушек.
Да-да, Андрей делает свои пометки и записи на обороте магазинных чеков! Ну, во-первых, по той причине, что писчая бумага у него в доме не водится – не письменный он человек, а во-вторых, ему представляется, что так много удобнее.
– И что же ты пишешь на своих чеках? – не раз спрашивал я насмешливо у него, получая один и тот же ответ:
– Что надо, то и пишу!
Да те же поди списки покупок, идя в магазин, или какие-нибудь нужные телефоны. Правда, однажды, много лет назад, я видел, как на обороте старого чека писал его сын-пятиклассник. И эта была записка отцу, что его вызывают в школу. Сам он поведать эту «радостную» весть папаше не решился, а предпочёл изложить её письменно на выдернутом из молочной коробки листке и ускользнуть из дому, от греха, одновременно со мной, когда я зашёл к ним за… нет, теперь уж не вспомню, но явно за чем-то важным.
А вот на сей раз я хорошо помню, чего ради к ним зашёл.
– Лена, – окликнул я жену Андрея, открывшего мне дверь, бросившего, глотая гласные, «проходи» и умчавшегося в гостиную, где в телике гремел футбол, – тебя можно использовать как женщину?
– Ну, давай, пробуй, – вышла она в прихожую из кухни, где жарила, судя по запаху, котлеты, и стала снимать фартук. – Этого достаточно, – уточнила, бросая его на стиральную машину, которая у них «припаркована» в коридоре, – или сразу и остальное?
Я промолчал, и она расстегнула верхнюю пуговицу домашнего платья-халата.
– А ничего, что Андрюха дома?
– Даже здорово! – показал я ей, как теперь говорят по-заморски, «лайк» вместо прежнего русопятского «на ять».
– Андрей! – протяжно крикнула она и расстегнула вторую пуговицу.
– Чего? – недовольно высунулся тот из двери в гостиную правой частью лица, продолжая левой следить за происходящем на телеэкране.