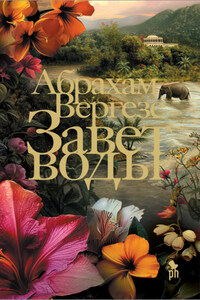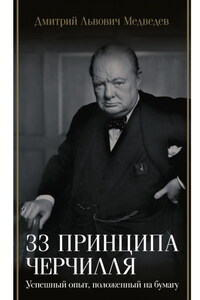1900, Траванкор, Южная Индия
Ей двенадцать лет, и утром она выходит замуж. Мать и дочь лежат рядом на циновке, прижавшись друг к другу мокрыми от слез щеками.
– Самый печальный день в жизни девочки – это день ее свадьбы, – говорит мать и вздыхает. – А потом, Бог даст, станет легче.
Вскоре она слышит, как мамины всхлипы сменяются ровным дыханием, а затем тихим похрапыванием, которое, как кажется девочке, наводит порядок в рассеянных ночных звуках – от поскрипывания деревянных стен, источающих дневной зной, до роющейся в песке дворовой собаки.
Кукушка надоедает: Кежеккетта? Кежеккетта? Где восток? Где восток?
Она представляет, как птичка смотрит вниз на поляну, на четырехугольную соломенную крышу, нависающую над их домом. И лагуну перед ним, и ручей, и рисовое поле позади. Птичьи крики могут продолжаться часами, не давая уснуть… но внезапно обрываются, как будто в гнездо прокралась кобра. В наступившей тишине ручей не журчит свою колыбельную, но ворчливо грохочет отполированной галькой.
Она просыпается до рассвета, пока мать еще спит. Сквозь окошко видно, как вода на рисовом поле поблескивает кованым серебром. На веранде сиротливо стоит резной отцовский ча́ру касе́ра, шезлонг, опустевший и покинутый. Она приподнимает подставку для письма, лежащую на длинных деревянных подлокотниках, и садится. Чувствует призрачный отпечаток отцовского тела, сохранившийся в тростниковом плетении.
Четыре кокосовые пальмы, растущие на берегу лагуны, склонились, поглядывая в воду на свои отражения, будто прихорашиваясь, прежде чем вытянуться к небесам. Прощай, лагуна. Прощай, ручей.
– Му́ули? – сказал накануне единственный брат ее отца, и она очень удивилась. Прежде у него не было привычки обращаться к ней с ласковым муули – доченька. – Мы нашли тебе пару! – Тон у него был вкрадчивый и елейный, как будто ей всего четыре года, а не двенадцать. – Твой жених ценит, что ты из хорошей семьи, дочка священника.
Она знала, что дядя подыскивает ей мужа, но все равно казалось, что он слишком спешит устроить этот брак. Что она могла ответить? Такие вещи решают взрослые. Беспомощное выражение на лице матери смущало ее. Маму было жалко, а ей хотелось только уважать ее, вовсе не жалеть. Позже, когда они остались вдвоем, мать сказала:
– Муули, это больше не наш дом. Твой дядя… – Она умоляла, как будто бы дочь смела возражать. Слова затихли, глаза нервно забегали. Ящерки на стене подергивали хвостами. – Там ведь почти такая же жизнь, да? Будешь праздновать Рождество, поститься перед Пасхой… церковь по воскресеньям. Та же евхаристия, такие же кокосовые пальмы и кофейные кусты. Это хорошая партия… Он зажиточный человек.
Зачем богатому мужчине жениться на бедной девочке, девочке без приданого? Что они недоговаривают? Чего ему не хватает? Молодости, для начала – ему сорок. У него уже есть ребенок. Несколько дней назад, после того как пришел и ушел сват, она подслушала, как дядя выговаривает маме:
– И что с того, что его тетка утонула? Это что, то же самое, что семейное безумие? Кто-нибудь слышал, что утопление передается по наследству? Люди всегда завидуют хорошей партии и вечно найдут, к чему придраться.
Сидя в шезлонге, она поглаживает полированные подлокотники и вспоминает руки отца; как большинство мужчин малаяли, он был похож на добродушного медведя – волосы на руках, на груди, даже на спине, кожу просто так не потрогать, только сквозь мягкий мех. Сидя на его коленях, в этом самом шезлонге, она выучила буквы. Она очень хорошо училась в церковной школе, и отец говорил:
– У тебя замечательные способности. Но любознательность – это даже важнее таланта. Тебе нужно учиться дальше. И даже в колледже! Почему нет? Я не позволю тебе рано выйти замуж, как твоя мать.
Епископ отправил отца в проблемную церковь рядом с Мундакая́мом[1], где не было постоянного ачча́на[2] из-за недовольства купцов-мусульман. Семью не стоило брать с собой в тот край, где утренний туман даже в полдень продолжал разъедать колени, а к вечеру поднимался до подбородка и где сырость несла с собой хрипы, ревматизм и лихорадку. Не прошло и года его служения, как отец вернулся, стуча зубами в ознобе, а кожа его пылала, и моча текла черного цвета. Прежде чем они успели позвать на помощь, грудь его перестала вздыматься. Когда мама поднесла зеркальце к папиным губам, оно не затуманилось. Отныне дыхание отца стало просто воздухом.
Вот это и был самый печальный день в ее жизни. Разве может свадьба быть хуже?
Она в последний раз встает с плетеного сиденья. Кресло отца и его кровать – для нее почти священные реликвии, они хранят его сущность. Если бы только можно было забрать их с собой в ее новый дом.